И вот пятью годами позже издатель Пертес напечатал в княжестве Саксония-Веймар, в университетском, городе Йена, «Приготовительную школу эстетики». Жан-Поль, в вечной тревоге, что его гонораров не хватит для содержания семьи, предпослал книге посвящение, которое адресовано герцогу Эмилю Августу Гота-Альтенбургскому и должно побудить его назначить автору пенсию. Это посвящение особого рода, оно имеет форму запроса: не примет ли герцог сей дар? Молодой правитель Готы, свободомыслящий, любящий искусство, но, к сожалению, изощренного ума человек, уже давно, польщенный, дал согласие (принять посвящение, а не выплачивать пенсию — этого он никогда не сделает), но тут йенский цензор, профессор математики, сказал: нет. Владелец типографии запротестовал, Жан-Поль запротестовал и пригрозил, что опубликует в другом месте посвящение и письма герцога, содержащие согласие, вместе с сатирическими примечаниями о цензорах. Но цензурная коллегия, состоящая из профессоров университета, не дала разрешения на публикацию, цензоры ведь знают: им никогда не ставится на вид слишком большая жесткость — только мягкость.
Их заключения выглядят так: «Эта рукоп. — пасквиль, следовательно, цензура не может ее пропустить» (профессор логики и математики). «Вместо рукоп. я обнаружил в папке только два гротескных или озорных листка — ходатайства о посвящении. Если и остальное в таком духе, что эти два листка, то все в целом не может быть допущено. Мне кажется, автор не в своем уме» (историк). «Его Светлость наверняка не примет благосклонно такого посвящения. К тому же, если то, что в книге, следующей за посвящением, коснется — пусть в самой искусной форме — Его Светлости, это, всего вероятнее, будет содержать, помимо восхвалений, немало непристойного и двусмысленного» (латинист). Только востоковед высказывается за разрешение, но он остается в меньшинстве.
В результате «Приготовительная школа эстетики» появилась без посвящения, но читатели «Газеты для элегантного мира» 13.X.1804 узнали, что запрещенное посвящение вскоре появится в виде брошюры, дополненное размышлениями о проблеме цензуры, которую, правда, Жан-Поль проблемой не считает. Не обладая гётевской государственной мудростью, он попросту против всякой цензуры.
Поначалу он предполагал назвать свое первое политическое сочинение в честь деревьев свободы времен революции «Деревцом свободы». Но когда он через два месяца закончил это сочинение, оно было озаглавлено так: «Книжица свободы Жан-Поля, или Его запрещенное посвящение правящему герцогу Августу фон Саксен-Гота; его переписка с ним и трактат о свободе печати» — и появилось, после того как Пертес в Гамбурге из страха перед цензурой отклонил его, к осенней ярмарке 1805 года у Котты в Тюбингене без каких бы то ни было возражений тамошней цензуры.
Может быть, она позволила ввести себя в заблуждение дружеской перепиской с Его Светлостью, приведенной в начале книжечки. Предположить, будто она не поняла, что тут имел в виду автор, в данном случае невозможно. Неясность и цветистость надуманных образов здесь встречается только в письмах герцога, представляющих собой ненужный для книги балласт. (Даже сам Жан-Поль, набивший на этом руку, не совсем их понимал.) Сам по себе трактат, правда, частью остроумен, сатиричен, ироничен, но при этом совершенно ясен и однозначен: противник государственной опеки, он доказывает, что цензура глупа, преступна и к тому же бесполезна.
Уже в ранних работах, в «Гренландских процессах», он высмеивал цензуру, указывал на рекламную роль запретов и справедливо отмечал, что слабые, то есть незначительные книги легче всего проходят через рогатки цензуры. В «Палингенесиях» он считал опеку виновной в том, что у немцев колпаки свободы все еще лишь ночные колпаки. У него был уже большой опыт общения с лейпцигскими и берлинскими цензорами, он был вынужден вносить поправки в безобидного «Юбилейного сениора» заменять слова «святой дух» на «добрый дух»), обратил внимание читателей «Комического приложения к „Титану“» на кощунство цензуры, оставив без изменений заголовок запрещенной сатиры «Надгробная речь над княжеским желудком», — теперь он все это собрал воедино, превратив в убедительный аргумент против духовного зажима авторов.
Начинает он с сатиры, рекомендуя австрийским государственным властям осуществить свободу чтения, увеличив число цензоров. Ибо последние пользуются полнейшей свободой (как свободны на невольничьих кораблях по крайней мере капитаны и в тюрьмах надзиратели), и стоит только довести их число до числа читателей, как все и будет урегулировано ко всеобщему удовлетворению. «Однако прежде чем нанимать столько цензоров, специалистам стоило бы взвесить, сколько времени обращается одна рукопись, как она изнашивается, насколько запаздывает, как трудно разбирать почерки и вообще читать написанное от руки, и не целесообразнее ли для цензоров, то есть для читателей, которые могут выполнять их обязанности — по подсчету Фесслера, в Германии триста тысяч читателей, — специально размножать рукописи, так чтобы по крайней мере на сто человек пришлась одна, то есть всего нужно было бы три тысячи экземпляров; в наше время благодаря печатному станку, за которым не угонится перо переписчика, это сделать нетрудно… Такие удобочитаемые печатные тексты могли бы тогда распространять книготорговцы в качестве младших чиновников цензурных коллегий, и государству это не стоило бы ни геллера, и даже вместо платы цензору за каждый лист читатели сами платили бы за каждый том».
Таково облачение. В основной же части с систематичностью, вообще-то Жан-Полю не свойственной, опровергаются один за другим все аргументы в защиту запрещения книг из различных областей знания. Лишь в двух случаях он признает — с оговорками — необходимость цензуры: против бульварной и порнографической литературы и в случае войны, причем о последней он замечает: «Так что запрещать книги можно только в такое время, которое само заслуживает запрета».
В остальном же он признает один принцип: книга принадлежит человечеству и вечности, и ни один цензор не вправе решать ее судьбу. Да и от чьего имени? От имени истины? Но это предполагало бы, что цензор владеет ею. Но тогда всякие поиски ее, то есть всякая наука, были бы бесполезны и достаточно было бы «просто заглянуть к цензору и получить у него все необходимые истины». Или же провозглашающие запреты опасаются влияния истин на народ? «Бедный народ! Его всегда допускают в королевские замки, когда предстоят величайшие тяготы мира и войны, и изгоняют оттуда, когда распределяют величайшие блага, например свет знаний, искусство, наслаждение, даже просто третий день отдыха. А если спросить, сколько человек насчитывает народ, то перед этим множеством совершенно исчезает вся правящая и ученая клика… На основании какого права требует одно из сословий исключительного владения светом — этим воздухом духа, — если оно не собирается использовать такую несправедливость для того, чтобы, пребывая на свету, распоряжаться теми, кто остался в темноте. Может ли государство разрешать лишь единицам развиваться так, как подобает всему человечеству?..»
И если считать, что народ способен понять истины лишь превратно, то ведь такое может случиться и с правящими слоями, и цензоры должны бы запретить и князьям читать книги, потому что у тех гораздо больше возможностей натворить бед. Познание существует для всех, однако овладеть им может только независимый: древо познания растет лишь как древо свободы.
А кто страшится переворота, пусть не книги запрещает, а меняет условия жизни. «Государствам принес гибель дух эпохи, а не дух книг, ибо сами книги были созданы и вскормлены духом эпохи. Разве автор не рождается прежде, чем его книга? Вертер застрелился, не прочитав до того ни единой строки о страданиях Вертера… И на чем вообще основана вера в то, что книги могут приносить такой большой вред? Я хотел бы, чтобы они на самом деле приносили его, быстро и ощутимо; тем легче было бы тогда хорошим книгам приносить добро».
А если в сочинениях критически рассматриваются формы правления, то властителям следовало бы радоваться возможности услышать правду о себе. Кому приносит пользу свобода хвалить властителя, если нет свободы хулить его? Меньше всего ему самому, ведь и он может ошибаться, как всякий другой, и неправильно поступать. «Неужели государство должно умереть, для того чтобы можно было его препарировать, — не лучше ли сообщениями о болезни предотвратить сообщения о результатах вскрытия?»
В конце книжицы Жан-Поль возвращается к сатире, которой он начал (отмена цензуры увеличением числа цензоров до числа всех читателей), и предлагает себя в качестве цензора, причем цензора собственных произведений. Он и не подозревает, сколь серьезна эта шутка. Ибо то, что он называет «самоцензурой», и есть подлинная опасность для правды в литературе: возникнув под влиянием цензурного гнета и духовных манипуляций, этот процесс превращает социальное препятствие в психологическое, переносит внешние границы вовнутрь пишущего и тем самым, хотя и разгружает цензурного чиновника, отрывает литературу от действительности. Но для Жан-Поля в самом деле то, что сегодня читается как пророчество, было шуткой: «Эти обязанности он станет исполнять… играя, попутно с писанием собственных произведений, словно сидя одним седалищем сразу в судебном кресле и в собственном рабочем кресле… Область, в которой работает сочинитель, как раз и есть его собственная, и он… издалека выведывает — что труднее делать постороннему цензору — сокровеннейшие намерения и уловки автора… и может… цензуровать сам себя вплоть до запрещения». Завершается это первое из его прямых политических сочинений призывом к князьям «выпустить на свободу свободнорожденные мысли», — призывом, исполненным умеренного оптимизма, который не лишен основания. Ибо всего спустя год после победы Наполеона над Пруссией начинается период реформ и освободительных войн, которые могли бы стать и войнами за внутригерманскую свободу. Только когда князья предали народ, Жан-Поль начинает испытывать разочарование, которое не мешает ему, однако, продолжать борьбу против цензуры. В последнем фрагменте романа — в «Комете», опубликованной в 1820 году, — сатира направлена уже против карлсбадских постановлений, открывающих период жесточайшего угнетения литературы. Фридрих фон Генц, государственный секретарь Меттерниха, в письме к своему другу Адаму Мюллеру так формулирует идеал инициаторов этих постановлений: «В основу положены мои слова: во избежание злоупотребления прессой в течение стольких-то лет ничего не печатать. Точка. Эти слова, принятые как правило с крайне малыми исключениями, в короткий срок вернут нас к богу и истине».
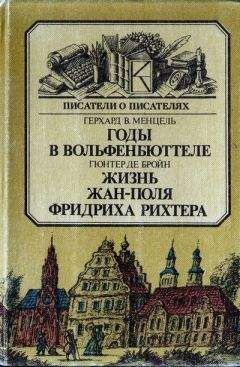
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)



