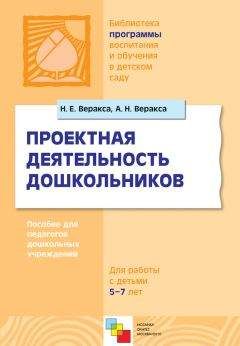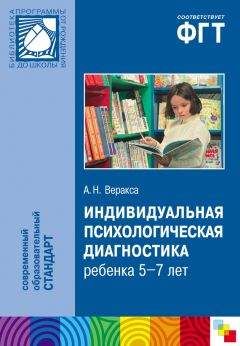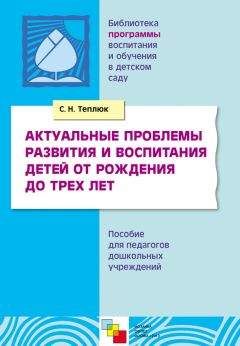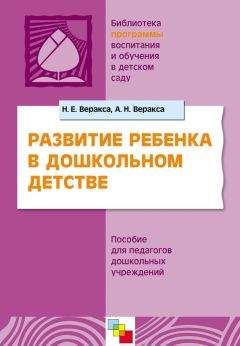Результаты исследований <…> дают возможность сделать следующие выводы относительно соотношения речи и образа в решении мыслительных задач.
1. Образные и словесные обобщения ребенка развиваются параллельно. При этом значения слов (кроме конкретных наименований единичных предметов), по крайней мере начиная с трех лет, представляют собой обобщения, построенные на выделении общих признаков группы предметов. Путь развития обобщенных словесных значений соответствует лишь одной из двух линий, выделенных Л. С. Выготским: движению от «потенциальных понятий» к собственно понятиям. Что касается второй линии (синкрет – комплекс – псевдопонятие – понятие), то положенные в ее основу Л. С. Выготским фактические данные относятся не к развитию словесных значений, а к направленности детского мышления при решении задач, требующих установления связей между предметами.
2. Формы мышления различаются между собой прежде всего характером образований, опосредствующих решение умственной задачи (сенсорный эталон; модельный – схематизированный и обобщенный – образ; словесное обобщение).
Включение речи в процесс решения детьми различного рода поведенческих и мыслительных задач не является показателем использования словесных обобщений в их опосредствующей функции. Чаще всего речь выполняет другие функции: привлечения прошлого опыта; обозначения наглядных средств решения задач и др. Так, при решении задач путем использования наглядного (модельного) опосредствования речь играет вспомогательную роль, хотя при этом могут использоваться не только синтагматические, но и парадигматические связи слов без их категориального наполнения. Поэтому изолированное изучение содержания доступных ребенку словесных обобщений не дает истинной картины роли речи в решении мыслительных задач. Важны не значения сами по себе, а то, как они используются в процессах мышления.
3. Опосредствующая функция речи складывается в обычных условиях дошкольного воспитания к старшему дошкольному возрасту. Ее становление связано не с изменением структуры обобщений (значений слов), а с установлением иерархических отношений между обобщениями и развитием обобщенного речевого планирования.
4. Предложенная Л. С. Выготским характеристика высших психических функций, включающая неразрывную связь трех параметров: опосредствованности, осознанности и произвольности, которые, с точки зрения Л. С. Выготского, представляют собой разные выражения одного и того же качества, должна быть уточнена. В ходе психического развития ребенка эти параметры формируются не одновременно. Опосредствованность возникает намного раньше, чем произвольность и осознанность. Их «триединство» обнаруживается лишь на высших этапах собственно речевого (понятийного) опосредствования.
Запорожец А. В., Венгер Л. А., Зинченко В. П., Рузская А. Г. Восприятие и действие/ Под ред. А. В. Запорожца. – М., 1967. – С. 177–181. В представленном ниже фрагменте из книги «Восприятие и действие» (под редакцией А. В. Запорожца) рассказывается о социальной обусловленности психики ребенка. Ребенок не рождается с готовой психикой, а приобретает ее главные черты, осваивая культурные формы психической деятельности. Это общее положение оказывается методологически принципиальным не только для понимания особенностей психического развития дошкольников, но и для организации проектной деятельности детей. Педагог, организующий проектную деятельность дошкольников, должен постоянно задаваться вопросом, какую сторону психической деятельности ребенка он развивает в процессе своего взаимодействия с ним. Только в этом случае проектная деятельность окажется эффективной формой детского развития.
Переходя к рассмотрению роли развития локомоторных актов в онтогенезе восприятия пространства, обратимся к современным экспериментальным данным относительно реакции младенца на видимую глубину. Такого рода реакции изучались Р. Уоком и Э. Гибсон, которые использовали для этого остроумную экспериментальную установку, названную ими «видимым обрывом». Она представляла собой нечто вроде большого стола (длиной около 2,5 м, шириной 2 м и высотой 1,5 м), со всех сторон окруженного деревянным барьером. Одна половина этого стола была закрыта досками, другая оставалась открытой. Покрытая досками часть установки имела рисунок из белых и цветных квадратов, расположенных в шахматном порядке.
Такой же рисунок имела и поверхность пола под другой, не закрытой частью стола. Вся горизонтальная поверхность стола в целях обеспечения безопасности испытуемых была покрыта толстым стеклом. В опытах участвовали дети в возрасте от 6 (когда они только начинали ползать) до 24 месяцев, а также детеныши животных, принадлежащих к различным видам (цыплята, молодые крысы, козлята, обезьяны и т. д.).
Эксперименты с детьми проводились следующим образом. Ребенок помещался в середине установки на центральной площадке. Мать попеременно подходила к краю установки то с закрытой ее стороны, то со стороны видимого через стекло «обрыва» и звала ребенка к себе.
Эксперименты показали, что в этих условиях дети в подавляющем большинстве случаев охотно ползут через закрытую часть стола и отказываются двигаться по открытой его части. Ребенок часто оказывается в конфликтном состоянии. С одной стороны, видя мать, он стремится приблизиться к ней. С другой стороны, когда он подползает к краю «обрыва», у него возникает защитная реакция противоположного направления. Иногда такой конфликт разрешается плачем, что рассматривается как симптом наличия у младенца восприятия глубины и специфической негативной реакции на эту глубину.
Р. Уок и Э. Гибсон не обнаруживают существенного различия в поведении младших и старших детей, хотя и указывают, что имеются данные, свидетельствующие об известном повышении с возрастом чувствительности к глубине. Вместе с тем они подчеркивают, что исследуемые формы поведения регулируются исключительно на основе зрительной информации, в то время как тактильные и кинестетические сигналы не имеют здесь якобы существенного значения.
Переходя к анализу специфических зрительных раздражителей, определяющих восприятие глубины, авторы, исходя из теоретических соображений Д. Гибсона, сосредоточивают свое внимание на характеристике структуры, или «текстуры» поверхности воспринимаемых объектов и тех перспективных изменений, которые претерпевает сетчаточное изображение данной структуры при различных дистанциях наблюдения.
Так, один и тот же шахматный рисунок, находящийся с одной стороны близко, непосредственно под стеклом, а с другой стороны расположенный далеко внизу, на самом полу, получает в глазах ребенка проекцию разной плотности (более далеко отстоящие квадраты видны как более мелкие и близко расположенные друг к другу), что и служит специфическим различительным признаком удаленности объекта.
Экспериментальным подтверждением указанного положения служат контрольные опыты, где структурированные поверхности были заменены гомогенным серым фоном, что привело к снижению эффективности различения глубинных отношений. Другим признаком глубины, тесно связанным с первым, только что описанным, являются, по мнению авторов, феномены двигательного параллакса, связанного с тем, что разноудаленные объекты при изменении линии взора смещаются по отношению к наблюдателю с разной быстротой. Таким образом, Р. Уок и Э. Гибсон подчеркивают значение чисто зрительных отличительных признаков для восприятия глубины. Они считают возможным утверждать, что «по крайней мере частично» механизмы пространственного знания у ребенка прирождены и готовы к функционированию к моменту появления локомоций, до того как ребенок получит какой-либо опыт практического овладения внешним пространством, до того как он столкнется с реальной опасностью падения с высоты и т. д.
В одном из исследований, проведенном во время пребывания в США (А. В. Запорожец, 1964), первоначально использовалась общая схема опытов Р. Уока и Э. Гибсона, а затем в нее были внесены некоторые изменения и дополнения с целью выяснить природу и происхождение описанных ими феноменов. Внешняя ситуация в наших исходных опытах воспроизводила условия экспериментов Р. Уока и Э. Гибсона, однако поверхность экспериментального стола (и соответственно плоскость горизонтального сечения «видимого обрыва») была вдвое меньше, что, возможно, несколько ослабляло впечатление от грозящей ребенку «опасности», но не могло, по нашему мнению, существенно изменить общий характер его поведения. Вместе с тем мы не ограничивали время проведения каждого опыта двумя минутами, а делали его более продолжительными (до 5–7 мин).
Обнаружилось, что в этих условиях, так же как и в опытах Р. Уока и Э. Гибсона, у младенцев, которые подползали к краю видимого обрыва, наблюдалось в большинстве случаев торможение двигательных реакций, более или менее значительные задержки локомоций и другие изменения поведения. Однако оказалось, что характер подобного рода изменений у детей разных возрастов существенно различен. Младшие дети (6–9 месяцев) вообще обнаруживали большее «бесстрашие» в данной ситуации, чем старшие (9—18 месяцев). Те из младших детей, которые более или менее длительно задерживались на пороге «обрыва», обнаруживали не столько страх, сколько нечто подобное глобальной ориентировочной реакции на фоне торможения локомоторных движений. Ребенок удивленно всматривался в зияющую под ним глубину, елозил руками по стеклу, иногда пытался скрести по его поверхности пальцами и т. д. Такого рода реакции были довольно непродолжительными и неустойчивыми, и после относительно короткой паузы младенец, если мать продолжала звать его к себе, начинал ползти по стеклу, уже не обращая особого внимания на зияющую под ним «пропасть».