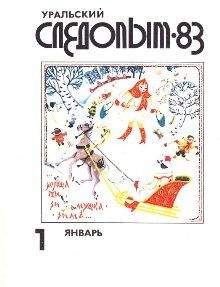Александр ПОЛЯКОВ
ВЕЛИКАНЫ СУМРАКА
Роман
Детям моим — Ксении, Анне, Павлу, Ивану
Пролог
Старик висел над пропастью. Ерши пегих волос смешно торчали во все стороны. Он осторожно повернул голову на цыплячьей шее и увидел в морской дали каменистый мыс Доба, мимо которого входили в новороссийскую бухту две перегруженные фелюги. Старик крепче вцепился в куст, тронул каблуком скалу и зажмурился от страха: вниз посыпались мелкие камни. Когда он открыл глаза, то испугался еще больше. Рядом — вот он, руку протяни — над ущельем висел старший брат Володя, шестиклассник Ейской гимназии, вчера приплывший на каникулы пароходом «Киласури».
— Володя, мы думали, ты на «Львице». Она делает восемь узлов. Почему на «Киласури»? — хрипло зачастил старик.
— На «Львице» сломалась машина. Не хотел сидеть в порту, — ответил брат, подтягиваясь легким телом. — Давай-ка выбираться. Родители заждались...
— Осторожно! Я-то уж ладно. Я старик. А ты молодой. Какой же год теперь?
— Осторожно? Чтобы меня опять расстреляли комиссары? Если мне тринадцать, то тебе, Левушка, десять. Прощай, не бойся! — весело подмигнул брат и разжал руки.
— Какие комиссары? Ты же. Постой, Володя-я-я!!! — отчаянно закричал старик и пришел в себя.
Бред отступил. Обшарпанные стены комнаты снова нависли над умирающим.
Старик с трудом приподнялся, нащупал на столике мятую алюминиевую кружку, неловко двинул ее, вода плеснула на потертую папку, размывая надпись: «Трудовая школа имени Максима Горького. Сергиев Посад. 1923 год. Делопроизводитель Л.А.Тихомиров». Он выцедил в черный рот остатки воды и, обессиленный, прикрыл неживые глаза. Красная мгла под веками запульсировала, увлекая в повторившийся бред.
Снова брат Володя, цемесские скалы, хребет Маркотх, рангоут еще невидимого корабля над волнами, а там, чуть ниже, на зеленой кустистой поляне — вольная игра диких котят.
— А год, милый Левушка, теперь 1862-й, — рассмеялся Володя и хитро подмигнул: — Почему ты не женился на Сонечке Перовской? Ах, что за девушка! Сколько огня. И не только революционного.
— Так вышло, — почему-то смутился старик. — Пойми, тюремный роман. Ты держись крепче.
— Не хочу. Ничего не хочу, — отвернулся Володя и опять сорвался в пропасть.
— Что я скажу маме? Господи. — прохрипел старик. Тоска разрывала сердце. Он поймал взглядом солнечный блик у мыса и почти равнодушно отпустил куст. Бездна приняла невесомое тело.
К вечеру старшая дочь привела священника из Лавры.
Усопшего отпели в церкви старого кладбища.
В большевистской газете появилась заметка: «16 октября 1923 года в Сергиевом Посаде умер Лев Тихомиров, бывший революционер, идейный лидер «Народной Воли», перешедший на сторону самодержавия. Умер никому не нужным. И это справедливо. Перебежчиков, отступников не жаловали во все времена.»
Глава первая
Нервы. Бессонница. Да-да, бессонница — изматывающая, безутешная. Тогда, в январе 1882-го, он еще не научился ценить ее таинственный дар — дар одиночества и размышления. Это потом уже, гораздо позднее, он пойдет навстречу темноте смелой легкой поступью, зная, что ничего не бывает напрасным и что тысячи и тысячи людей, возможно, впервые глубоко задумались о жизни и о себе в бесконечные часы ночного бодрствования. То же самое случится и с ним. А пока.
А пока казалось, арестуют не сегодня — завтра. Если бы была жива Соня Перовская, она непременно сказала бы: «Все это у тебя, Левушка, на гистерической почве. Ты устал.» Но Соню повесили почти год назад. Он помнил: солнце, ростепель, шпалеры войск на Семеновском плацу..
В Каретном студеный ветер стих, однако ближе к Садовой, в двух шагах от радикальской штаб-квартиры, ударил в лицо так сильно и колко, что Тихомиров зажмурился. Собственно говоря, в паспорте значилось другое имя: Иван Григорьевич Каратаев. Паспорт и новый костюм выдали в комитете «Народной воли» — как члену исполкома, попавшему под жесточайшую слежку. Бывший театральный гример достал оловянные трубочки с красками и нарисовал ему на правой щеке большое родимое пятно, налепил кустистые брови — попробуй-ка, узнай! «Вылитый Василий Николаевич Андреев-Бур- лак в роли Подхалюзина, — шепелявил старик. — Ах, какая игра! Малый театр рукоплескал.» Сына гримера осудили по процессу 193-х: вместе с Ипполитом Мышкиным тот пытался освободить Чернышевского из Вилюйска. Отпрыска же своего болтливый старик боготворил, а потому сочувствовал революции.
И все же покоя не было. А тут еще рыжая борода. Борода торчала из-за выставленного на лестницу посудника и явно принадлежала полицейскому агенту. (И где только понабрали таких неловких!) Было слышно, как тот дышит, стараясь приглушить дыхание. Пробившийся солнечный луч позолотил бороду, и на мгновение вспомнилось детство. Геленджик, Новороссийск, отец, смешно пугающий их с братом из-за такого же шкапа. Тихомиров оборвал воспоминания: ведь филер прятался на лестнице тайной штаб-квартиры, и это означало, что дела «Народной воли» совсем плохи.
Первым желанием было немедленно выйти из подъезда. Убежать, скрыться в метели. Он с трудом сдержал себя. Постоял с полминуты, пьяно качнулся, икнул (переиграл?) и смело шагнул к квартирной двери.
— Простите, сударыня, за гривуазность.— расшаркался перед вышедшей на звонок хозяйкой. — Смею представиться. Выступаю, если позволите, интересантом вдовствующей чиновнины, испытывающей. Я бы сказал, некоторое инко- модите. Выражаясь языком бессмертного Гоголя. То есть, затруднение житейского свойства. Я про шкап, про этот замечательный посудничек. Если он вам без надобности, разрешите забрать. Вдове большое подспорье.
А сам шепотом — жарким, быстрым: «Машенька, передай Юре: надо уезжать отсюда. Не мешкая, не привлекая внимание. За шкапом шпион».
Что за прелесть эта Машенька, Мария Николаевна! Ни один мускул не дрогнул на ее прекрасном лице. Дотронулась спокойной рукой до тяжелой косы, уложенной корзиночкой, улыбнулась потемневшими глазами. Разве скажешь, что эта богатая орловская помещица — прилежная ученица старого якобинца Зайчневского, что сама она бредит инсуррекцией, захватом власти? Уверена: стоит лишь зажечь спичку, как полыхнет Русь всенародным пожаром, сбросит проклятое ярмо деспотизма. Не сам ли он, Тихомиров, шутливо называл ее вспышкопускательницей.
И снова громко:
— Знал! Как благородно! И сказал Господь богатому юноше: отдай все. И детки вдовы не забудут щедрости. Придут и поклонятся: салфет вашей милости. А шкап хорош! Поди ж, мытищинские ладили? Да уж, жила-была мышь шкапни- ца, да попалась!
Он качнул зазвеневший посудник, словно бы желая изгнать вороватую мышь. Почувствовал, как съежился, перестал дышать спрятавшийся филер. Наверное, бедняга в тот миг позавидовал участи мелкого грызуна. А Тихомиров терзал шкап. То прижимал к стене, то стучал по рассохшимся бокам. Он издевался над сыщиком, зная, что тот не посмеет обнаружить себя, будет терпеть.
Уже полгода квартиру снимали супруги Кобозевы, те самые, что прежде были хозяевами сырной лавки в Петербурге. На самом деле это были члены исполнительного комитета Юрий Богданович и Мария Оловеникова; теперь он играл роль живописца, она, статная красавица, — его любящей жены и чуть легкомысленной, но хлебосольной хозяйки. Именно из их лавки в доходном доме Менгдена, пропахшей голландским сыром, к середине февраля был прорыт подкоп под Малой Садовой, как раз на пути следования Александра II из Михайловского манежа, и вскоре неутомимый Коленька Кибальчич собрал самую мощную бомбу для взрыва царя. Бомба не пригодилась. Пригодилась другая. Но это и не важно: 1 марта прошлого года государя взорвали в Петербурге.
Тогда-то все и началось. Самые деятельные члены исполкома «Народной воли» были арестованы. Это походило на разгром, который потряс столичный центр организации до самых основ. Пришлось отступить — в более спокойную Москву, куда, впрочем, тоже дотягивались руки нового инспектора охранного отделения Георгия Порфирьевича Судейкина, чья звезда стремительно взошла на небосклоне российского сыска. Гений, воистину гений — ничего не скажешь. Добрался и до тайной штаб-квартиры.
Тихомиров, покачиваясь и напевая ахшарумовский куплет («Едва я на ногах — шатаюся, как пьяный.»), вышел из парадного. Постоял, посмотрел на несущиеся по Садовой экипажи. Свернул в Лихов переулок, снова замер, ожидая погони. Но все было тихо.
Немного покружил в переулках и двинулся по Петровке к доходному дому Обидиной, где жил в меблированных комнатах. Хотелось тепла, чаю. Он привычно бросил взгляд на свои окна и замер с бьющимся сердцем: в одной из комнат горел свет. «Спокойно. Возможно, горничная. Не пори, брат, горячку», — уговаривал себя. Еще час побродил в метели. Горничная округлила глуповатые глаза: «Не входила я, барин! Меня хозяйка за сыром послали.»