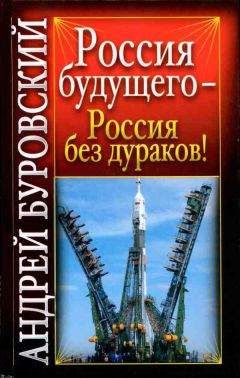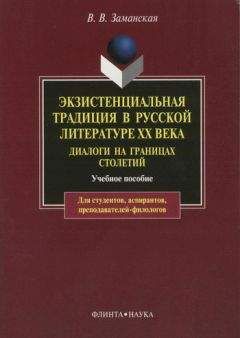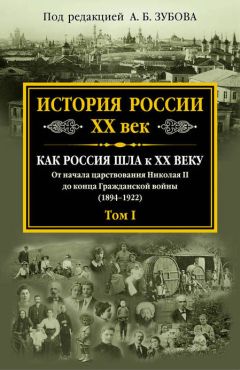И какова же была эта их общая цель? Вот как изображает ее Кавелин: «Иоанн IVхотел совершенно уничтожить вельможество и окружить себя людьми незнатными, даже низкого происхождения, но преданными, готовыми служить ему и государству без всяких задних мыслей и частных интересов. В 1565 г. он установил опричнину. Это учреждение, оклеветанное современниками и непонятое потомством, не внушено Иоанну — как думают некоторые [читай: славянофилы] — желанием отделиться от русской земли, противопоставить себя ей; кто знает любовь Иоанна к простому народу, угнетенному и раздавленному в его время вельможами, кому известна заботливость, с которой он стремился облегчить его участь, тот этого не скажет. Опричнина была первой попыткой создать служебное дворянство и заменить им родовое вельможество, на место рода, кровного начала, поставить в государственном управлении начало личного достоинства: мысль, которая под другими формами была осуществлена потом Петром Великим».20
Читатель, уже знакомый с предыдущими главами, понимает, насколько фантастична концепция Кавелина и поэтому нам просто нет смысла сравнивать её с реальностью XVI века. Не станем говорить и о том, что ликвидация частной собственности и крестьянской свободы вела, как мы теперь знаем, в исторический тупик. Обращу лишь внимание на другую сторону дела.
В конце концов излагал все это совершенно серьезно Кавелин в 1840-е, когда результаты работы «величайших деятелей» были очевидны. Его оппоненты, славянофилы, суммировали их следующим образом: «Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью... все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать и неизвестно до чего дойдут... И на этом внутреннем разладе... выросла бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии... Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошли до огромных размеров... здесь является безнравственность целого общественного устройства... правительственная система, делающая из подданного раба, [и создающая в России] тип полицейского государства».21
Там же, с. 355,362.
Теория государства у славянофилов, (далееТеория...) Спб., 1889, с. 38, 39,37,9.
Глава девятая Государственный миф
Стоит ли добавлять, что народ, который Грозный столь самоотверженно, оказывается, защищал от «родового вельможества», был к тому времени полностью раздавлен крепостничеством, достигшим степени рабовладения, а от «служебного дворянства», которое он насаждал ценою страшного террора, уже и следа не осталось? Странным образом оно — словно ни Г розного, ни Петра никогда не существовало — преобразовалось в то самое «родовое вельможество», истреблению которого они себя посвятили. И притом в гораздо худшую, по сравнению с московским боярством, его разновидность — в рабовладельческую аристократию. Иначе говоря, если цель «величайших деятелей» действительно состояла в уничтожении «вотчинников» и в защите от них народа, то в 1840-е и слепой мог видеть, что хлопотали они зря.
«Прелести кнута»
Короче, Кавелин писал так, словно на Петре русская история и закончилась. И жил он не в реальном полицейском государстве, а в некой воображаемой стране, где нет ни рабовладения, ни нового «родового вельможества» (к которому, кстати, он и сам принадлежал), а есть лишь одно «начало личного достоинства». Писал так, будто сверхдержавная мощь России и была искомым отрицанием отрицания. «Теперь все образованные люди интересуются русскойусторией; не только у нас, даже в Европе многие ею занимаются. Объяснять причины этого... явления мы считаем излишним. Россия Петра Великого, Россия Екатерины II, Россия XIX века объясняют его достаточно... Её судьба совсем особенная, исключительная... Это делает её явлением совершенно новым, небывалым в истории».22
Мы небывалые, мы исключительные, нас «целый мир страшится», попробуй нами не интересоваться — вот же что говорит нам Кавелин. Ломоносов и Татищев, однако, пришли к тому же выводу столетием раньше — без всяких премудростей гегелевской диалектики.
1 7 Янов
Просто не было им никакой нужды подрумянивать и припудривать хамскую рожу самодержавия, прятать её под цивилизованным гримом «начала личного достоинства», дабы сделать приемлемой для либералов и прогрессистов середины XIX века. По сути, всё, что сделал Кавелин в Иваниане, можно суммировать в одном предложении: он попытался примирить Ломоносова со Щербатовым, представив сверхдержавную мощь России и «прелести кнута» необходимым условием «личного достоинства».
Но как же удалось ему убедить в своей правоте чуть не всю русскую историографию его времени? Частично объясняется это, как мы видели, изящным теоретическим пируэтом: Кавелин противопоставил славянофильской абсолютной уникальности России более комфортабельную для просвещенной публики относительную, так сказать, уникальность отечества. Я не говорю уже, что он был первым, кто внес в русскую историографию критерий исторического прогресса, представил, говоря его словами, «русскую историю как развивающийся организм, живое целое, проникнутое одним духом, одними началами».23
Но главное, я думаю, даже не в этом. Лишь современному и вообще постороннему взгляду очевидно, что Кавелин просто постулировал свою концепцию, даже не пытаясь ее доказывать. Для тогдашнего русского уха всё было доказано — с огромной, с покоряющей убедительностью. Не историческими свидетельствами (которые полностью у Кавелина отсутствуют), даже не диалектикой. Доказано художественной логикой его концепции, могучим артистизмом ее изложения, буквально гипнотизировавшим тогдашнего читателя. Кавелин внес совершенно новое измерение в оценку эпохи царя Ивана, вдруг полностью переместив акценты в известной трагедии.
Если после Карамзина представлялась эта эпоха трагедией страны, то под пером Кавелина оказалась она трагедией царя. «Неистовый кровопийца», «злодей, зверь с подъяческим умом» обратился вдруг в одинокого героя античной трагедии, бесстрашно бросившего вызов неумолимой судьбе.
Как он это делает?
«Древняя до-Иоанновская Русь представляется погруженною в родовой быт. Глубоких потребностей другого порядка вещей не было, и откуда им было взяться? Личность — единственная плодотворная почва всякого нравственного развития, еще не выступала; она была подавлена кровными отношениями».24 Чего только ни делал царь Иван, чтобы вывести страну из этой непробудной дремоты, обрекавшей ее на вечный, на «китайский» застой! Он «уничтожил областных правителей и всё местное управление отдал в полное заведование самих общин».25 Не помогло.
Бояре, вытесненные из местного управления, сосредоточились в Москве, «Дума находилась в их руках, они одни были ее членами».26 Царь пытается вытеснить их и из центра. «Цель та же: сломить вельможество, дать власть и простор одному государству».27 Поскольку лишь оно, государство, представляет, как мы помним, «единственно живую сторону нашей истории», то ограничивать его «власть и простор» — преступление перед этой историей. Грозный это понимает, бояре — нет.
Но царь их теснит, «все главные отрасли управления отданы дьякам... вельможи почти отстранены от гражданских дел».28 Он настигает их и в самой Думе: «И в неё вводит начала личного достоинства».29 Но не получается: боярские традиции стоят поперек дороги, связывают ему руки, сводят его реформы к нулю. Нет вокруг людей, понимающих его великие замыслы, нет учреждений, способных их воплотить.
Там же, с. 357.
Там же, с. 361.
Там же, с. 362.
Там же, с. 361.
Глава девятая Государственный миф
Там же, с. 361-362.
«Общины, как ни старался оживить их Иоанн для их же собственной пользы, были мертвы, общественного духа в них не было, потому что в них продолжается прежний полупатриархальный быт».30
Не одно, заметьте, вельможество виновато — бессильна, мертва, нереформируема вся славянофильская «Земля». Сам дух страны отчаянно сопротивляется реформам. Горе, горе великому царю, он «жил в несчастные времена, когда никакая реформа не могла улучшить нашего быта... Иоанн искал органов для осуществления своих мыслей и не нашел; их неоткуда было взять... в самом обществе не было еще элементов для лучшего порядка вещей».31
Чем же, скажите, могла завершиться эта неравная борьба опередившего свое время титана с упрямой, глухой, враждебной судьбой? «Иоанн изнемог, наконец, под бременем тупой полупатриархальной, тогда еще бессмысленной среды, в которой суждено ему было жить и действовать. Борясь с ней насмерть много лет и не видя результатов, не находя отзыва, он потерял веру в возможность осуществить свои великие замыслы. Тогда жизнь стала для него несносной ношей, непрерывным мучением: он сделался ханжой, тираном и трусом. Иоанн IVтак глубоко пал именно потому, что был велик».32 Видите теперь, откуда росли крылья у «падшего ангела», нарисованного Белинским? Разве перед нами не трагедия, достойная пера Шекспира, а заодно и Сервантеса? Отважный Дон Кихот, изнемогший в борьбе с тупыми патриархальными драконами поневоле превращается под конец в Макбета. И поскольку роль леди Макбет исполняла при нем сама История, то достоин он не одного лишь сожаления, но и восхищения. И загадочное раздвоение личности, так измучившее Щербатова и Карамзина, получило отныне не только объяснение, но и оправдание: зверства, которыми запятнал себя в своем падении царь Макбет, свидетельствовали отныне лишь о том, как благороден и велик был на взлете своих сил и надежд царь Дон Кихот.