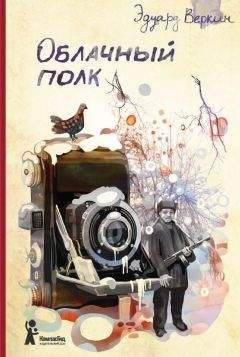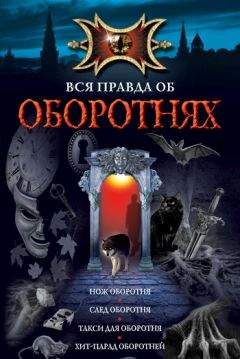Похлебка оказалась как всегда невкусной, но ели мы как всегда с удовольствием. Пока не показался.
Ага, Ковалец, он как тень просто, никуда не спрятаться. Саныч грустно потер глаз.
Ковалец жулькал в зубах папиросу, не курил, просто красовался – папироса была настоящая, и очень Ковальцу шла, с папиросой он выглядел гораздо мужественнее. Для фотографии, наверное, тренируется, в «Красной Звезде» хочет напечататься, а мне так кажется, ему уже можно и не тренироваться, пойдет вполне себе, а папиросу ему, видимо, Виктор дал.
– Значит так, обормоты, – Ковалец перебросил языком папиросу справа налево. – Вы доигрались. Глебов велел мне за вас взяться.
– Ну, возьмись, возьмись.
Саныч ухмыльнулся, подул на ложку.
– Однако, – Ковалец достал зажигалку, сделанную из патрона, чиркнул, закурил, смачно, как в кино совсем. – Однако, слушайте. Глебов очень недоволен тем, что вы тут устроили. Не отряд, а цирк какой-то! С Большой Земли прилетают люди по серьезным делам, а у них в сортире черте-что! Что про нас в газете напишут?! Отряд Глебова вместо того, чтобы рвать мосты украшает клозеты немецкими погонами!
Саныч потупился.
– Слушайте приказ командира, герои. Привести партизанский туалет в надлежащее состояние. Дается час. Через час проверю лично!
Ковалец стрельнул сердитым глазом и удалился.
– Во урод, – вздохнул Саныч с восхищеньем. – И ногу не сломит, и коза не забодёт…
Глава 4
Это случилось в пятый день, значит, двадцать седьмого.
Я думал это наши.
Тогда я еще не научился определять самолеты, ни по виду, ни по звуку, ни по высоте полета. Они и появились-то с нашей стороны, с востока, стайка черных мух, почти незаметных на фоне восходящего солнца, я на них и внимания не обратил – в последнее время в небе было оживленно, мы привыкли лишний раз голову не задирать.
Тем утром я ловил свет. Солнце поднималось, оно уже высоко всползло над крышами, еще несколько минут – и трубы мехзавода лягут в кадр, солнце повиснет между ними, как лампа.
Сирены завыли слишком поздно. Поздно – даже я видел черные кресты на крыльях. Заработали крупнокалиберные пулеметы, воздух вспороли трассеры, заухало возле моста – там, где стояла зенитная батарея. Небо зачернело разрывами, но стая сдержала строй, с равномерным пчелиным гудением она наползла на город и рассыпалась уже за рекой. От нее оторвались небольшие самолеты с неправильными поломанными крыльями и торчащими из под брюха шасси, они походили на стрижей, быстро юркнувших к воде, чтобы напиться, только им не нужна была вода, они падали к мосту, и через секунду земля дрогнула, я упал на крышу, и съежился, и загрохотало уже без перерыва, и ревело, ревело, как циркулярная пила, напоровшаяся на медный штырь.
Я открыл глаза. Город спал. Люди не успели проснуться, не понимали что происходит, никто не бежал, никто не спасался, несколько едва проснувшихся горожан растерянно смотрели вверх.
Батарея у моста замолчала, разрывы в небе прекратились, стая бомбардировщиков медленно разворачивалась, заруливала на второй заход. Еще стрекотали пулеметы, они еще пытались закрыть город, но самолеты не замечали их, медленно распространялись над нами, казалось, что они висят, что их лишь чуть сдувает ветром, вниз снова полетели бомбы. И тут грохнуло уже по-хорошему, крыша опять толкнула меня, я подлетел, свалился, попробовал встать. Железо плясало подо мной, стоять не получалось совсем, я прижимал к себе камеру, стараясь ее не разбить изо всех сил, было страшно…
А потом я увидел свой самолет. Он заходил со стороны солнца. И бомбу я в этот раз видел уже отчетливо – она была подвешена под самолетным брюхом, поблескивала сталью и улыбалась – я ясно различал нарисованную на ее морде оскаленную пасть. Самолет нырнул вниз, к крышам, на несколько секунд он исчез из поля зрения, затем пронесся уже над моей головой, уже без бомбы.
Ударила взрывная волна, с меня сорвало рубашку, и тут же пришел звук, настолько громкий, что я почти сразу оглох и чуть-чуть ослеп, на секунду совсем.
Правая заводская труба падала, по пути разваливаясь на кубики, как игрушечная. Вторая труба разрушилась по-другому, надломилась у основания, и села, вычихнув дым, в небо выстрелил густой пылевой фонтан, отрезавший солнце, стало темно, ненадолго, слева в воздух выплеснулся огонь, жадный оранжевый гриб – взорвалась нефтебаза.
Поднялся ветер, он разорвал пыль на отдельные вихри, и я увидел, как гибнет город.
В тишине.
В пригородах горели и почему-то взрывались частные дома, подбрасывало крыши и сломанные доски, оплывали башни элеватора, над вокзалом повисла коричневая гарь, из которой выступала банка водонапорной башни, построенной в тысяча девятьсот восьмом, горели шестиэтажные дома на Набрежной, у одного из них отвалилась стена.
Мир, он как бы осыпался по краям, я смотрел точно через длиннофокусный объектив, то, что был передо мной выступало ярко и выпукло, то что оставалось сбоку, рассеивалось в невнятное крошево. К глазам словно приставили бинокль, и после этого я смотрел сквозь него почти полгода, жизнь проплывала, будто отделенная толстыми линзами и чуть мутноватыми призмами.
Наверное, это тоже спасло мне жизнь. Рассудок во всяком случае.
Да, точно, так.
Постепенно нормальное зрение вернулось, но ощущение в голове сохранилось, ненормальность, странный дефект пленки. Пока был жив фельдшер, я спрашивал. Он не очень хорошо разбирался в медицине, долго щупал мне голову и смотрел в уши, потом сказал, что у меня, видимо, повреждение мозга, но какое точно, сказать нельзя. Возможны разные проявления, звуки, голоса, видения разные, равнодушие и оцепенение, лечить это, особенно в наших условиях, никак нельзя, так что надо просто жить аккуратнее.
Голоса, фигуры, до этого, к счастью, не дошло, но все равно, приятного было мало, оцепенение, однако. И еще.
Я перестал понимать карту. Саныч пытался мне объяснить, и на бумаге показывал, и на земле рисовал. Где мы, где болото, где немцы – а вот тут Псков, вот тут, видишь? Вот Старая Ладога, вот же! Реки, дороги, железные дороги, все это рассыпалось в окрошку. Я отличный партизан, если меня поймают, я не смогу никого выдать, просто не сумею. Поэтому я всегда с Санычем. Я не в состоянии никуда выйти в одиночку, теряюсь в двух соснах. Для меня нет никакого «там», для меня всегда только «здесь», я не могу представить, как там в Пскове, про Москву можно не говорить. Нет, я помню Псков, но… Это сложно передать словами, ты словно в ведре живешь.
Еще не могу вперед думать. Дня на три, от силы. Иногда я пробую вспомнить – мог ли я это делать раньше?
Мучительно. Точно все время скользишь по льду и не можешь ни зацепиться, ни остановиться, катишься, катишься…
Но и плюсы тоже есть, в таком скольжении. Я стал лучше замечать детали. Возможно, это началось еще до бомбежки, контузия могла только подтолкнуть… не знаю. Если попробовать вспомнить…В первый день еще – брат влетел в комнату, заорал – ура, война, война! Мы побежали на улицу, смотреть, что это такое, я ждал танкеток, мотоциклистов, истребителей, выстроившихся в грозные звезды и плывущих по небу в сторону запада – ведь всем понятно, с кем война, солдат, марширующих под строгим присмотром командиров. И чтобы из репродукторов с дребезжанием звучало знакомое «если завтра война, если враг нападет…»
Но ничего этого я не заметил, день как день. Однако, в этой обычности, в полуденной протяженности июньского воскресенья я вдруг неожиданно остро увидел птиц, сидевших на пушистых тополях в непривычных количествах, непонятное подрагивание воды в лужах, мальчишку, выронившего пряник и отчего-то смотревшего в небо, щели в беленых стенах, город обрел необычную глубину резкости, воздух и тот стал пахнуть иначе, почему-то мокрым кирпичом, и этот запах неожиданно точно соотносился с окружающим. Я еще обрадовался, мне надо было как раз разобраться с трубами…
– Первый снег – всегда тает, – сказал Саныч. – Вранье. Я помню три раза, когда он не таял. Сходи, посмотри, это интересно.
– Чего интересного то?
– Белый цвет. Ты же фотограф, в цветах должен знать толк.
– Потом…
– Нет, надо сейчас, пока не натоптали. Сходи-сходи. Валенки возьми, зима уже.
Я достал валенки, вытряхнул из них газету, пересыпанную тертым артиллерийским порохом. Валенки слиплись и были как каменные, ногу пришлось проталкивать, чувствовал себя как на маленьких ходулях.
Зима.
Выбрался на воздух, чуть не упал – снег лег плотно, почти по колено и продолжал валиться тяжелыми хлопьями, мир стал другим, все правильно Пушкин писал. И на самом деле никаких следов, только птицы натоптали. Или белки, не различаю их.
– Ненавижу первый снег! – крикнул изнутри Саныч.
А мне все равно. Первый снег… Хорошо липнет. Однажды мне в ухо попали снежком, потом полдня выковыривал. И глаза к нему еще долго привыкают. Камера его плохо ловит, контраст повышается. Я равнодушен к первому снегу, я вернулся в землянку.