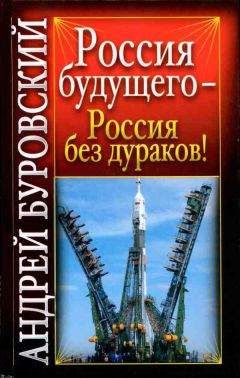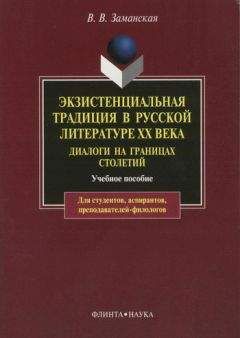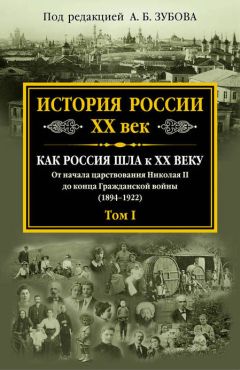Ну, как в самом деле это звучало бы, если б историк «красного террора» 1918 года сказал, что был в нем много виноват личный характер Ленина и потому был он бесцелен? В том смысле, что вызванный столкновением, причиной которого был порядок, а не лица, на-
Там же.
Там же, с. 180-181. Там же, с. 196.
правлен он был не столько против порядка, сколько против лиц. И удары наносил не только по монархистам и буржуям, и даже не по ним преимущественно, а бил направо и налево — по интеллигентам и священникам, по офицерам и учителям, по крестьянам, прятавшим хлеб от продразверстки, по мешочникам, тащившим его голодным детям, и просто по обывателям, на квартиры которых зарились соседи. Разве могла совершаться иначе великая революция, с хрустом, треском и кровью ломавшая исторический курс страны? Да, террор был направлен против лиц (против кого же еще может быть он направлен?), но целью его было сокрушение векового порядка, «старины», как объяснил нам Горский.
Гпава девятая Государственный миф
У ошибки Ключевского есть, конечно, и более глубокая,
теоретическая подоплека. Характеризуя природу московской государственности середины XVI века как «абсолютную монархию, но с аристократическим управлением, т.е. правительственным персоналом», он не попытался проанализировать свою собственную (и очень точную, заметим в скобках) формулу. И это, естественно, не дало ему возможности отличить самодержавие от абсолютизма.
Абсолютная монархия была для Ключевского, как, впрочем, и для его коллег по государственной школе, синонимом неограничен-
Право, невозможно себе представить в этих обстоятельствах послереволюционного историка, который повторил бы сентенцию Ключевского о Грозном (в том смысле, что и без Ленина жизнь страны «устроилась бы так же, как строилась она до него и после него»). Именно поэтому обличение мнимой «ошибки» царя Ивана звучит сегодня так наивно. Великая самодержавная революция выглядит под пером Ключевского диким, палаческим, но все-таки частным эпизодом русской истории, обязанным главным образом личному характеру Грозного. И именно «бесцельной» жестокостью опричнины как раз и аргументировал он её исторически случайный, ничего в жизни России не изменивший характер. В этом утверждении и состоит, собственно, смысл нигилистического направления в Иваниане.
ной власти. Ограничения произвола власти понимали они исключительно в смысле юридическом (недаром же государственная школа звалась еще и юридической). Категории латентных ограничений, которая и составляла, как мы видели, ядро парадоксальной ограниченно/неограниченной природы абсолютизма, для них не существовало.
И здесь бросалась в глаза загадка: каким же в таком случае образом уживались на протяжении столетия в доопричной России абсолютная монархия с аристократическим персоналом, если с самого начала, еще при деде Грозного, «характер этой власти не соответствовал свойству правительственных орудий, посредством которых она должна была действовать»? Или точнее, почему их несоответствие не мешало им мирно сотрудничать при Иване III, а при его внуке вылилось вдруг в смертельную борьбу? Согласитесь, тут ведь и впрямь что-то очень странное.
Решение загадки, предложенное Ключевским, двояко. Во-первых, полагает он, невозможная эта комбинация была возможна лишь до тех пор, покуда обе стороны её не замечали. А во-вторых, просто «царь не ужился со своими советниками. При подозрительном и болезненно возбужденном чувстве власти он считал добрый прямой совет посягательством на свои верховные права, несогласие со своими планами — знаком крамолы, заговора и измены». В результате «он неосторожно возбудил старый вопрос об отношении государя к боярству — вопрос, который он не в состоянии был разрешить и котсрого поэтому не следовало возбуждать».99 Здесь и вступает в игру личный характер царя Ивана. Неуживчивый оказался монарх, скандальный.
Ключевский признает, что до того, как Грозный опрометчиво «возбудил вопрос», сотрудничество единоличного лидера («абсолютной монархии») с боярской Думой («аристократическим персоналом») шло в Москве очень даже гладко. Противоречия, возникавшие между лидером и боярами, улаживались, не достигая уровня политической конфронтации. «Её [Думы] строй, авторитет и обычный порядок делопроизводства как будто рассчитаны были на неколебимое взаимное доверие её председателя и советников, свидетельствовали о том, что между государем и его боярством не может быть разногласия в интересах, что эти политические силы срослись между собой, привыкли действовать дружно, идти рука об руку и что идти иначе они не могут и не умеют. Бывали столкновения, споры, но не о власти, а о деле; сталкивались деловые мнения, а не политические притязания».100
И даже естественное — по мере роста централизованного государства — расширение «бюрократического правительственного персонала» не могло нарушить этого исторически сложившегося порядка. Подчиняясь непосредственно государю, приказная бюрократия превращалась в аппарат исполнительной власти, не претендуя на участие в законодательстве. Короче, и тот и другой правительственный персонал имел в системе абсолютной монархии свои, отдельные, не перекрещивавшиеся друг с другом и оттого не противоречившие друг другу функции.
Но все это лишь до момента, покуда никто не замечал их органической несовместимости. Случайностью было лишь то, что заметил её именно царь Иван. Отсюда — кровавая баня, которую мы обсуждали. Вроде бы понятно. Но въедливый читатель все равно ведь мог бы спросить: даже если Грозный по какой-то причине не заметил бы и не взорвал эту бомбу замедленного действия, встроенную, по Ключевскому, в московскую политическую машину, где гарантия, что не взорвал бы её какой-нибудь другой царь? Пусть не в середине XVI века, а, допустим, в конце. Или даже столетием позже. Пусть не в форме опричнины, а как-нибудь еще (задумывался ведь и сам царь Иван просто о поголовном «истреблении вельмож» в стиле древнеримских проскрипций).101 Не в деталях ведь, не в характере того или иного царя суть, а в бомбе. Законы политической драматургии не отличаются в этом смысле от театральных: раз вывешено в первом акте на сцене ружье, раньше или позже оно должно выстрелить.
Там же, с. 348.
Но была ли бомба-то? Ключевский, похоже, и сам не заметил, что, предположив несовместимость абсолютной монархии с аристократическим персоналом, он нечаянно встроил в свою концепцию московской государственности фатальную необходимость гигантского, переворачивающего всю жизнь страны взрыва. И не спасает тут дело его замечание, что «надобно было до поры до времени заминать его [т.е. вопрос о несовместимости], сглаживая... средствами благоразумной политики, а Иван хотел разом разрубить вопрос, обострив самое противоречие, своей односторонней политической теорией поставив его ребром, как ставят тезисы на ученых диспутах, принципиально, но непрактично... Этот вопрос был неразрешим для московских людей XVI века».102 А для людей XVII, выходит, разрешим? Или XVIII? Разве в хронологии дело?
Втом-то и проблема, что как московская политическая практика того времени, которую мы только что словами Ключевского же и описали, так и опыт североевропейских соседей Москвы, чей государственный механизм устроен был точно так же, как у нее, заставляет нас усомниться в самой постановке вопроса.
Начнем с того, что царь Иван вовсе не был первым, кто заметил описанный Ключевским конфликт. Еще в 1520-е его отец Василий попытался, как мы помним, противопоставить своих дьяков Боярской думе, установив в Москве личную диктатуру. Но конфликт этот почему-то не привел тогда к смертельной конфронтации, как при его сыне. Напротив,Ј эпоху Великой Реформы боярство, обнаружив несомненную способность к политическому обучению, ответило на попытку Василия статьей 98 нового Судебника и созывом Земского собора, более того, подготовкой конституционного переворота.
Иначе говоря, московская государственная машина оказалась не такой уж беспомощной и неповоротливой, чтобы не обнаружить пространство для политического маневра внутри абсолютной монархии. Она нашла новые формы равновесия между властями. Сам состав Правительства компромисса, во главе которого стоял человек, даже не имевший ранга боярина, и душою которого был тоже не
боярин, а священник (тогда как боярин князь Курлятьев, а возможно, и боярин князь Курбский были его рядовыми членами), говорит о способности тогдашних московских политиков адаптироваться к новым условиям политического бытия. Короче, даже после тиранической попытки Василия, которая «возбудила вопрос» еще за полвека до опричнины, это все еще была открытая система. Более того, она была на пути к достижению новых политических компромиссов.