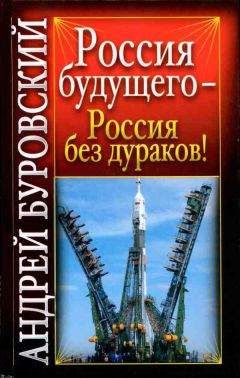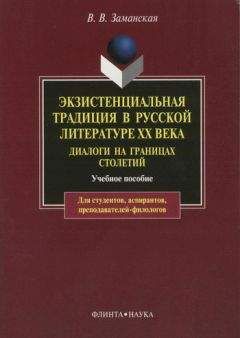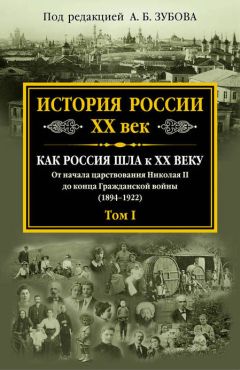Спросим для начала, мыслимо ли вообще, чтобы власть, которая громогласно объявляет себя неограниченной, воздерживалась, употребляя выражение Платонова, от «причуд личного произвола» и «недостойных способов проявления» своей неограниченности? Другими словами, власть, которая, будучи юридически абсолютной, признавала бы «нравственно обязательные» ограничения? Едва зададим мы себе этот вопрос, как ответ становится ясен. В конце кон-
106 В.О. Ключевский. Сочинения, т. 3, с. 40.
цов всю первую часть книги (и целую главу во второй) посвятили мы описанию именно такой власти. Мы назвали эту форму европейской государственности абсолютизмом. Короче говоря, речь идет о доса- модержавной политической организации Московского государства.
А первой — и главной — чертой этой организации были, как мы уже знаем, латентные ограничения власти, проходящие в русской историографии под рубрикой «нравственно обязательных». Заметьте, нравственно, а не юридически, но всё равно обязательных. Для чего обязательных? Естественно, для того чтобы общество воспринимало власть легитимной, а не «мятежником в собственном государстве» (как воспринимало оно режим Грозного).
Таким образом, спор о подкрестной записи царя Василия еще раз подтверждает, что латентные ограничения власти не только существовали в досамодержавной России, но и были сутью её абсолютистской политической легитимности.
Но вот чего мы до сих пор не обсуждали и что становится очевидным именно в свете спора Платонова с Ключевским: «снять» противоречие между ними (как и множество других подобных противоречий в русской истории) невозможно без представления о фундаментальной двойственности русской политической культуры.
Вот смотрите. Платонов заявляет, что боярский совет «одинаково во все времена Московского государства... всегда» исполнял в нем правоохранительные и даже правообразовательные, т.е. законодательные фуншдии. Но ведь это неправда. На самом деле, как мы теперь знаем, боярский совет исполнял эти функции отнюдь не всегда. Во всяком случае не в опричную эпоху при царе Иване, который присвоил их себе, нанеся тем самым смертельный удар европейской традиции русской культуры и разрушив традиционную абсолютистскую форму московской государственности.
Однако ведь и Ключевский не применяет к анализу манифеста Шуйского выводы, вытекающие из собственных его открытий. Он лишь намекает на них, говоря о самодержавных прерогативах, которые «клятвенно стряхивает» Шуйский. Впечатление такое, что интуитивно Василий Осипович чувствует идею латентных ограничений власти в доопричной России, бродит вокруг нее — так близко, что, кажется: вот-вот он ее схватит и сформулирует. Но нет, не формулирует. Пусть и был он самым знаменитым еретиком государственноюриди- ческой школы, но принадлежал-то он все равно именно к этой школе.
Глава девятая Государственный миф
Между тем, едва становимся мы на почву идеи латентных ограничений власти, как тотчас и убеждаемся, что оба классика были действительно правы. Более того, исчезает сам предмет их спора. Ключевский был прав, настаивая на принципиальной новизне антисамодержавного манифеста Шуйского. Просто потому, что никогда до этого ни один государь московский публично от самодержавия не отрекался. Но и Платонов ведь прав, подчеркивая традиционно-абсолютистский характер обязательств Шуйского. Оба были правы, ибо после самодержавной революции Грозного реставрация в Москве европейского абсолютизма, провозглашенная царем Василием, была событием одновременно и «новым» и «старым».
Спор с Платоновым и Ключевским
Платонов, убежденный монархист и непримиримый противник придворной камарильи, окружавшей в его время Николая II и повинной, по его мнению, в гибели России, естественно, вслед за Кавелиным, воспринимал опричнину как революцию царя, освободившую монархию от опеки реакционной знати. Манифест Шуйского был для него-поэтому своего рода символом реставрации власти этой ненавистной ему придворной швали. Свергнутая Грозным боярская котерия снова воцарилась, полагал он, на Москве, коварно воспользовавшись для этого злоупотреблениями опричнины.
«Старая знать, — пишет он, — опять заняла первое место в стране. Устами своего царя она торжественно отрекалась от только что действовавшей системы и обещала „истинный суд" и избавление от „всякого насильства" и неправды, в которых обвиняла предшествовавшие правительства... Царь Василий говорил и думал, что восстанавливает старый порядок. Это был порядок, существовавший до опричнины... Вот каков, кажется нам, истинный смысл записи Шуйского: она возвещала не умаление царской власти, а её возвращение на прежнюю нравственную высоту».107
Что ж, однако, дурного в возвращении власти на прежнюю нравственную высоту? И почему убежден Платонов, что одна лишь старая знать была заинтересована «в избавлении от всякого насильства»? Разве не был истинный суд в интересах всех граждан страны? И разве не всем гражданам обещает это Шуйский, обязуясь «у гостей и торговых и черных людей дворов и лавок и животов не отымати»?
Не естественней ли предположить, что манифест царя Василия лишь отражал простую истину — как и во времена Курбского (и, добавим в скобках, Хрущева) — боярство осознало: невозможно обеспечить свою безопасность (и свои привилегии), не обеспечив в то же время элементарные гарантии жизни и имущества всему народу? И наоборот — невозможно оказалось в начале XVII века дать народу такие гарантии, не обеспечив в то же время боярству его привилегии. Ибо, как свидетельствовал опыт опричнины, боярский совет в сфере политических отношений был в ту пору эквивалентом Юрьева дня в области отношений социальных. Существовать одно без другого не могло (что опять-таки подтверждает режим Хрущева, вернувший крестьянам паспорта, отнятые у них Сталиным). Ибо лишь вместе означали они европейский абсолютизм. Конец одного знаменовал гибель другого.
В досамодержавные времена можно еще было сомневаться в существовании этой роковой связи между политическим разгромом аристократии и закрепощением крестьянства, но после опричнины она стала очевидной. Победа самодержавия действительно означала всеобщее холопство. Этого странным образом не заметил Платонов. Впрочем, странно ли это на самом деле? Как всякий историк, он невольно переносил реалии своего времени, свои страсти и свою ненависть в прошлое. Не говоря уже о том, что гипноз государственного мифа отрезал ему, как, впрочем, и всей русской историографии его времени, путь к представлению о парадоксе европейской неограниченно/ограниченной абсолютной монархии.
С.Ф. Платонов. Цит. соч., с. 231-232 (выделено мною. — АЛ.).
Но невозможно ведь согласиться и с Ключевским, что воцарение князя Василия составило эпоху в нашей политической истории. Оно, может, и составило бы эпоху, не случись до него опричнина. Но воцарился-то Шуйский после Грозного. После того, как с грохотом обрушилась на Руси ее традиционная государственность. После того, как окутала страну свинцовая туча крепостного права. Что могли изменить в этой раскаленной политической атмосфере благородные манифесты? Какую эпоху могли они составить? Ведь коалиция контрреформы не исчезла после опричнины. Напротив, с разгромом земского самоуправления и закрепощением крестьянства она усилилась. И нерешенные проблемы, стоявшие перед страной во времена Правительства компромисса, не исчезли. Под угрозой польского нашествия они обострились.
Здесь бой закипал, страшный, яростный. Здесь дело нужно было делать, а не только крест целовать. Как можно было спасти страну от неотвратимо наступающего самодержавия? И можно ли было в тот поздний час сделать это вообще? Кто знает? Но если и было это возможно, то требовало чего-то гораздо большего, нежели манифесты. Например, немедленного созыва Земского собора; восстановления крестьянского самоуправления и призыва в Москву всего, что уцелело после опричнины от нестяжательского духовенства и «лутчих людей» крестьянства и городов. Требовало, наконец, отмены «заповедных лет» и торжественного восстановления Юрьева дня; организации и вооружения той самой коалиции реформы, что уходила корнями в благополучные, либеральные, досамодержав- ные годы. Совокупность этих мер, может, и помогла бы предотвратить трагедию. Или, по крайней мере, дать достойный бой наступающему самодержавию.
Но для этого понадобился бы лидер масштаба Ивана III, понадобилась бы четкая программа европейской перестройки страны. Вот тогда манифест царя Василия мог бы сработать — как отправная точка ренессанса русского абсолютизма, как начало реальной борьбы за его восстановление. Но ничего ведь похожего и в голову не пришло новому царю. И потому был он обречен остаться проходной, а вовсе не «эпохальной» фигурой в политической истории. Кем-товроде полузабытых уже сейчас мастеров аналогичных манифестов, как Александр Керенский в России или Шахпур Бахтияр в Иране.