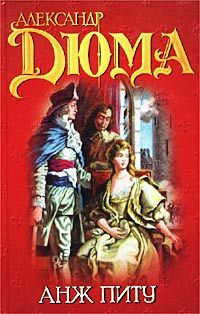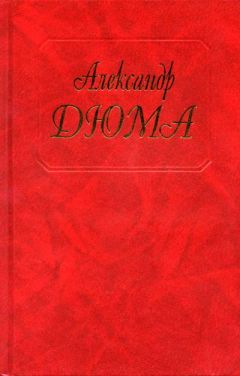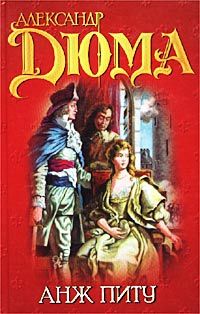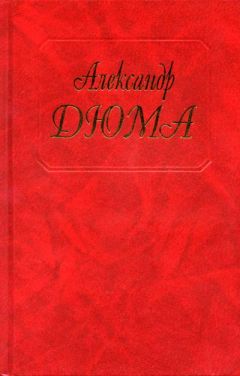– Работать! – воскликнул Питу. – Вы говорите о том, что надо вооружаться для защиты родины, а сами думаете о том, что вам пора идти работать?
И Питу так презрительно фыркнул, что арамонцы униженно переглянулись.
– Мы готовы пожертвовать еще несколькими днями, если это совершенно необходимо для свободы, – сказал кто-то из крестьян.
– Чтобы быть свободными, мало пожертвовать одним днем, этому надо отдать всю жизнь.
– Значит, – спросил Бонифас, – когда трудятся во имя свободы, то отдыхают?
– Бонифас, – возразил Питу с видом рассерженного Лафайета, – те, кто не умеет встать выше предрассудков, никогда не станут свободными.
– Я с радостью не буду работать, мне только того и надо, – сказал Бонифас. – Но что же я тогда буду есть?
– Разве это обязательно – есть? – возразил Питу.
– В Арамоне пока еще едят. А в Париже уже не едят?
– Едят, но только после победы над тиранами, – сказал Питу. – Кто ел 14 июля? Разве в этот день люди думали о еде? Нет, им было не до того.
– Ах, взятие Бастилии, как это, должно быть, прекрасно! – воскликнули самые ретивые.
– Еда! – презрительно продолжал Питу. – Питье – другое дело. Была такая жарища, а порох такой едкий!
– И что же вы пили?
– Что пили? Воду, вино, водку. Питье приносили женщины.
– Женщины?
– Да, превосходные женщины, которые делали флаги из подолов своих юбок.
– Неужели! – изумились слушатели.
– Но назавтра-то вы все же должны были поесть, – произнес какой-то скептик.
– Разве я спорю? – ответил Питу.
– Но раз вы все-таки поели, значит, работать все-таки надо, – торжествующе сказал Бонифас.
– Господин Бонифас, – возразил Питу, – вы говорите о том, чего не знаете. Париж вам не деревня. Там живут не крестьяне, послушные голосу своего желудка:
obediendia ventri, как мы, люди ученые, говорим по-латыни. Нет, Париж, как говорит господин де Мирабо, всем народам голова; это мозг, который думает за весь мир. А мозг, сударь, никогда не ест.
– Это верно, – согласились слушатели.
– Впрочем, – сказал Питу, – хотя мозг и не ест, он питается.
– Но как же он тогда питается? – спросил Бонифас.
– Невидимо для глаза, пищей, которую поглощает тело.
Тут арамонцы совсем перестали что-либо понимать.
– Растолкуй нам это, Питу, – попросил Бонифас.
– Это очень просто, – ответил Питу. – Париж, как я уже сказал, – это мозг; провинции – конечности, провинции будут работать, пить, есть, а Париж будет думать.
– Коли так, я ухожу из провинции в Париж, – сказал скептик Бонифас. – Пошли со мной? – обратился он к остальным.
Многие рассмеялись и, похоже, встали на сторону Бонифаса.
Питу видел, что этот зубоскал того гляди подорвет к нему доверие.
– Ну и отправляйтесь в Париж! – закричал он в свой черед. – И если вы встретите там хоть одну такую же смехотворную физиономию, как у вас, я плачу вам за каждого вот такого крольчонка луидор.
И Питу одной рукой показал своего крольчонка, а другой встряхнул свой карман, где зазвенели монеты, оставшиеся от щедрого дара Жильбера.
Питу тоже рассмешил присутствующих.
Бонифас пошел красными пятнами.
– Э, дорогой Питу, ты слишком много о себе воображаешь, называя нас смешными!
– Ты смеху подобен, – важно произнес Питу.
– На себя-то посмотри, – сказал Бонифас.
– Что мне смотреть на себя, – ответил Питу, – быть может, я такой же урод, как ты, но зато не такой болван.
Не успел Питу договорить, как Бонифас – ведь Арамон в двух шагах от Пикардии – изо всей силы заехал ему кулаком в глаз; Питу ответил истинно парижским пинком.
За первым пинком последовал второй, который поверг маловера наземь.
Питу наклонился над противником, словно для того, чтобы довести свою победу до логического конца, и все уже бросились было на помощь Бонифасу, но тут Питу выпрямился:
– Запомни, – сказал он, – покорители Бастилии не дерутся врукопашную. У меня есть сабля, возьми и ты саблю, и сразимся.
С этими словами Питу вынул саблю и приготовился к бою, то ли забыв, то ли очень кстати вспомнив, что в Арамоне всего две сабли: у него да у местного полицейского, причем сабля полицейского на целый локоть короче, чем его.
Впрочем, чтобы восстановить равновесие, он надел каску.
Это великодушие воспламенило присутствующих. Все дружно решили, что Бонифас грубиян, чудак, дурень, недостойный принимать участие в обсуждении общественных Дел.
Поэтому его выдворили.
– Видите, – сказал тогда Питу, – вот так происходят перевороты в Париже. Как сказал Прюдом или Лустало, кажется, добродетельный Лустало… Да, это он, я уверен» «Великие кажутся нам великими только оттого, что мы стоим на коленях: восстанем же!»
Эти слова не имели ни малейшего отношения к происходящему. Но, быть может, именно по этой причине они произвели магическое действие.
Маловер Бонифас, отошедший на двадцать шагов, был поражен, он вернулся и смиренно сказал Питу:
– Не сердись на нас, что мы знаем свободу не так хорошо, как ты.
– Тут дело не в свободе, – ответил Питу, – а в правах человека.
Этим мощным ударом Питу вторично сразил аудиторию.
– Право слово, Питу, – сказал Бонифас, – ты человек ученый, и мы отдаем тебе должное.
– Да, – согласился Питу с поклоном, – воспитание и опыт поставили меня выше вас, и если я давеча говорил с вами сурово, то единственно из дружеских чувств.
Раздались рукоплесканья. Питу видел, что можно дать себе волю.
– Вы только что говорили о работе, – сказал он. – Но знаете ли вы, что такое работа? Для вас трудиться – значит колоть дрова, собирать жатву, вязать снопы, класть камни и скреплять их цементом… Вот что для вас работа. По вашему мнению, я не работаю. Так вот, вы ошибаетесь; я один тружусь больше вас всех, ибо я размышляю о вашей независимости, я мечтаю о вашей свободе, о вашем равенстве. Я делаю в сто раз больше, чем вы. Быки, которые пашут землю, равны; но человек, который мыслит, превосходит все силы материи. Я один стою вас всех. Возьмите господина де Лафайета, это худой, светловолосый человек, ростом не выше, чем Клод Телье; у него вздернутый нос, маленькие ножки, тонкие ручки; но не стоит говорить о руках и ногах: их можно и вовсе не иметь. И что ж! Этот человек держал на своих плечах два мира, в два раза больше, чем Атлант, а его маленькие ручки разбили цепи, сковывавшие Америку и Францию.. И раз он смог это сделать своими руками, которые не толще, чем ножки стула, посудите сами, что могу я сделать моими.
При этих словах Питу засучил рукава и обнажил свои мосластые, похожие на ствол падуба, руки.
Он не стал завершать сравнение с Лафайетом, уверенный, что и без всяких выводов произвел огромное впечатление.
И он не ошибся.
Глава 63.
ПИТУ-КОНСПИРАТОР
События, которые являются для человека великим счастьем или великой честью, по большей части происходят оттого, что человек либо всей душой жаждал этих почестей, либо презирал их.
Если захотеть приложить эту аксиому к историческим событиям и деятелям, станет видно, что она не только глубока, но еще и истинна.
Мы не будем ее доказывать и ограничимся тем, что применим ее к нашему герою Анжу Питу и нашей истории.
В самом деле, если мы отступим на несколько шагов назад и вернемся к сердечной ране, которую нанесло Питу открытие, сделанное им на опушке леса, то увидим, что потрясенный Питу ощутил большое презрение к мирской славе.
Он надеялся взрастить в своем сердце драгоценный и редкий цветок, что зовется любовью; он вернулся в родные края с каской и саблей, гордый тем, что соединит Марса и Венеру, как выражался его прославленный земляк Демутье в «Письмах к Эмилии о мифологии», и был весьма сконфужен и опечален, когда убедился, что в Виллер-Котре и его окрестностях есть и другие влюбленные.
Он принял столь деятельное участие в крестовом походе парижан против аристократов, но мог ли он тягаться с деревенской знатью в лице г-на Изидора де Шарни!