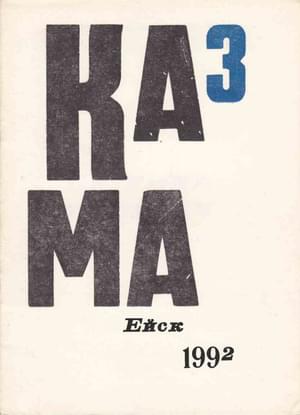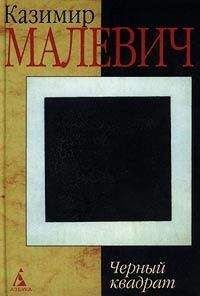получается совершенно неожиданный случай. Разум, как холодильный колпак, превращает пар опять в капли воды, и бурный пар, образовавший нечто другое, чем был, превратился в воду.
Так же лавина бесформенных, цветовых масс находит опять те формы, откуда пришли ее побудители. Кисть художника замалевывает те же леса, небо, крыши, юбки и т. д.
Тот же художник объема, скульптор. Форма – его главный побудитель, вызывающий в нем силу нового, особенного строения и как таковая иногда заставляет отдалять свой побудительный прообраз.
Но и здесь объемовед вырубает те же формы, рубит старое, не может никак съехать в сторону от Венеры.
Буря форм, их новая конструкция, новое тело под колпаком сводится к Венере Милосской, к Аполлону. А то настоящее, творческое, новое лежит в отрубленных кусках под ногами венер и фавнов. В отбитых кусках мрамора, глины, дерева отрубилось то сокровенное, что лежит в пустых формах виденных скульптур.
* * *
Жизнь не создала для поэта слова, специально для его поэтического творчества, и он сам не позаботился об этом.
Предметы родили слова, или слово родило предмет, а утилитарный разум приспособил их к своему обиходу, он был большим работником и, пожалуй, главным в создании себе знаков для своего удобства.
Поэт пользуется всеми словами и, в свою очередь, хочет их приспособить к своему переживанию, к нечто такому, что, может быть, ничего не имеет ни с какой вещью и словом, если я скажу «плачу» – разве можно исчерпать в слове «плачу» – все. Если я скажу «тоскую» – тоже. Все слова есть только отличительные знаки, и только. Но если слышу стон – я в нем не вижу и не слышу никакой определенной формы. Я принимаю боль, у которой свой язык – стон, и в стоне не слышу слова. Я целиком слышу, что чувствует, что терпит, нежели напишу «стонет». И сам стонущий больше облегчает себя в стоне, нежели говорит, что болит. Ибо «болит» есть добавочное, пояснительное о стоне, о его причине.
Поэт даже не поступает так, как живописец и скульптор. Он не возвращает полученное от форм природы – природе. Ибо природа получила одежду разумом, он ее одел для отличия, все тончайшие ее отростки, в обувь, платье, качество и т. д.
И поэт говорит лишь через одежду об одежде, о тех отличительных знаках, которые нужны разуму, его гастрономии, его ломбарду.
Для поэта не всегда солнце бывает солнцем, луна – луною, звезды – звездами. Поэт может перемешать все названия по-своему. Ведь может сказать, что потухло солнце.
Но с точки разума оно вовсе не потухло, а зашло.
Пользуясь совсем неподходящими средствами – в поэте тоска и почти на редкость бывают стихотворения, где бы поэт не плакал, не тосковал о невозможности передать то, что хотел сказать о природе, ибо хотел говорить о природе, а говорит в стихотворении об одежде, о слове. А она хотя и сшита хорошо, но все же не то тело, о котором хотелось говорить.
Еще впуталась «она», «любовь», «Венера» – с ней поэт совсем закис, застонал и ищет спасения в смерти.
* * *
Поэту присущи ритм и темп, и для него нет грамматики, нет слов, ибо поэту говорят, что мысль изречения – есть ложь, но я бы сказал, что мысли еще присущи слова, а есть еще нечто, что потоньше мысли и легче, и гибче. Вот это изречь уже не только что ложно, но даже совсем передать словами нельзя.
Это «нечто» каждый поэт и цветописец-музыкант чувствует и стремится выразить, но когда соберется выражать, то из этого тонкого, легкого, гибкого – получается «она», «любовь», «Венера», «Аполлон», «наяды» и т. д. Не пух, а уже тяжеловесный матрац со всеми его особенностями.
Ритм поэты чувствуют, но силу его, силу своего настоящего употребляют как спаивающее средство. Себя обкладывают предметами, подчищая их, подтачивая или просто подбирая друг к другу, и спаивают, связывают ритмом.
Самое подбирание и составление форм в темпе и ритме есть характерность, отделяющая поэта от поэта.
Сходство их в пользовании одними и теми же вещами и песни о «ней» в постановке есть мастерство. Пушкин достиг большого мастерства, может быть, и многие другие достигали и достигают молодые поэты.
Но мастерство как таковое – грубое, ремесленное даже в том случае, когда говорят о художественности и еще вплетают «красота», а если хотят еще тоньше выразить, говорят «одна поэзия».
* * *
Поэт есть особа, которая не знает себе подобной, не знает мастерства или не знает, как повернется его Бог. Он сам внутри себя, какая буря возникает и исчезает, какого ритма и темпа она будет. Разве может в минуты, когда великий пожар возникает в нем, думать о шлифовании, оттачивании и описании.
Он сам как форма есть средство, его рот, его горло – средство, через которое будет говорить Дьявол или Бог. Т. е. он, поэт, которого никогда нельзя видеть, ибо он, поэт, закован формой, тем видом, что мы называем человеком.
Человек-форма такой же знак, как нота, буква, и только. Он ударяет внутри себя, и каждый удар летит в мир.
Поэт слушает только свои удары и новыми словообразованиями говорит миру, эти слова никогда не понять разуму, ибо они не его, это слова поэзии поэта.
И когда разум выявил их в понятие, они реальны и служат единицею мира. Будучи непонятым, но действительно реальным.
* * *
Мысль исчезла; как неуклюжее, громоздкое стихотворение лежит неподвижным камнем векового образования.
Стихотворения всех поэтов представляют, как комок собранных всевозможных вещей, маленькие и большие ломбарды, где хорошо свернутые жилеты, подушки, ковры, брелоки, кольца и шелк, и юбки, и кареты уложены в ряды ящиков по известному порядку, закону и основе.
Строка очень странная, наивная, может, наивность и велика, но мне она тоже наивна и собою напоминает нечто примитивное.
Способ, которым передавал поэт свое, очень забавный.
Если рассмотреть строку, то она нафарширована, как колбаса, всевозможными формами, чуждыми друг другу и незнающими своего соседа.
Могут быть в строке лошадь, ящик, луна, буфет, табурет, мороз, церковь, окорок, звон, проститутка, цветок, хризантема. Если иллюстрировать одну