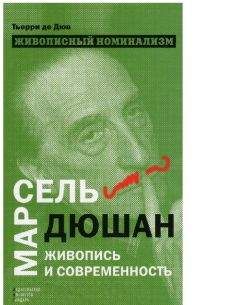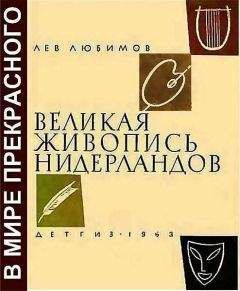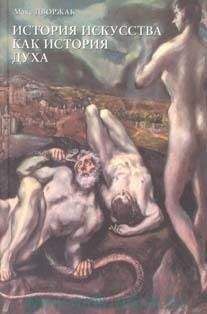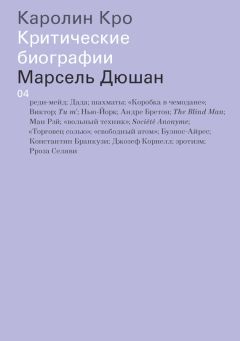И, наконец, четвертой и самой загадочной из временных фигур, заключенных в этой картине, является переход между «Девственницей» и «Новобрачной» как таковой. От девственности к не-девственности переходят не в непрерывном назревающем процессе, а резко меняя состояние. Целомудрие теряют единожды, живописцем становятся сразу, вся живопись уже заявлена в первоначальном выборе. «Переход...» происходит в точечном времени, мгновенным скачком, на «сверхкороткой выдержке». Это «фигура времени», по сути своей вневременная, поскольку она сведена к точке, о чем говорит название картины и его написание: ПЕРЕХОД (прописными) от девственницы к новобрачной (строчными). Чтобы перейти от девственницы к новобрачной, нужно ввести член: vierge31 /у verge32 , от г с точкой слова «девственница» — к и греков, игреку выражения «таг у est» ; «все эти слова играют на другом слове, которое наверняка надо искать у греков: как кончить, не отдав должное фаллосу? Не таков ли ключ, способный как нельзя лучше прояснить волшебную сказку, героями которой оказались Новобрачная и ее холостяки?»9
Будучи в буквальном смысле вне времени, вторжение фаллоса будет повторяться у Дюшана с регулярностью метронома, как сама его пунктуация: апостроф «Tu m’», запятая «Большого стекла», двоеточие «Дано:» варьируют один и тот же начальный пассаж, уже в августе 1912 года расставивший точки над i. Между девственницей, которую предстоит написать, и написанной новобрачной — та же разделительная черта, что и между virgo и virga , тот же прыжок в сверхуз-кое или в четвертое измерение, та же «трехмерная „выемка“, которая позволяет себя перейти, преодолеть (одолеть?) только тому, кто способен на моментальный переход»10.
Этот фаллический путник, о котором говорит Сюке — и которого он блестяще разглядел в отсутствующей фигуре «присматривающего за тяготением»,—этот «путник по живописи» сам по себе невидим, не нарисован. «Ты никогда не ищешь меня взглядом там, откуда смотрю на тебя я»,—говорит Лакан11. Позднее, оборвав на последнем полуслове «живопись сетчатки», картина «Tu m’» вставит зрителю в глаз ерш для мытья бутылок — чтобы, конечно же, усладить его раз и навсегда. Но еще до нее Дюшан, этот неустанный путник, перейдет от живописи к совсем другому: он высушит слезы грустного молодого человека на готовой — ready made — сушилке для бутылок, направит на готовый предмет сожаления живописца, открывшего, что, лишь отказавшись от описания самого себя, можно по-настоящему перейти к живописи. В «Большом стекле» запятая появится для того, чтобы отрезать холостяков от так же. Она «отрезает в резерв», но вместе с тем стремится быть «знаком согласования» —присматривающим, находящимся под присмотром, «свидетелем-окулистом»? Грустный молодой человек выяснит, что художник не является первым зрителем своего автопортрета; явление его собственного имени преломляется под действием «эффекта Вильсона—Линкольна», непоправимо распадается надвое: МАР уходит вверх, а СЕЛЬ остается внизу. И когда «Дано:» в преддверии смерти живописца уложит новобрачную в кустах, оно также установит двойную точку «во-первых: родиться живописцем» и «во-вторых: не быть живописцем» на уровне глаз посмертного зрителя: только мы видим через горизонтальные прорези в испанской двери, как эта новобрачная с распахнутым влагалищем и «причинной чинностью» разрешается сыном по имени Марсель Дюшан.
Вся живопись заявлена в первоначальном выборе, высказана или предсказана в названии «Перехода...», которое, как мы видели, обозначает буквой i вторжение символического в чистом виде, неименуемое именование скопического влечения на месте Другого. Уберите i из vierge (девственница), и получите verge (член): недостающее означающее — это фаллос, означающее нехватки. Но эта девственница не кто иная, как женщина, которую предстоит написать; уберите
i из peindre— написать, и полгите pendre—повесить. В самом деле, по ту сторону запретной черты она будет названа именно так: став женщиной нарисованной (в прошедшем времени), Новобрачная будет называться повешенной самкой.
Однако наименование, заявленная живопись, есть лишь по эту сторону черты: переход от предсказанного к сказанному является сам по себе не сказом, а делом. Эта картина не просто имеет название, она — картина.
Складывается пятая временная — или, скорее, вневременная, фигура: точка перехода растягивается, весь процесс делания картины превращается в не истекающий Эон. Даже если эмпирически написание картины протекает во времени, в данном случае — и теоретически, и эмоционально — ему свойственна пленительная безвременность бессознательного, сновидения. Глагол «(живо)писать» сохраняет неопределенную форму38. Хотя наиболее «законченной» картиной Дюшана является «Новобрачная», в пластическом смысле «Переход» ее превосходит.
Не только благодаря его загадочной иконографии, которая поддерживает постоянную неопределенность между абстракцией и фигуративностью, словно бы Дюшан, окончательно уйдя от дорогой кубистам аналитики предмета, уже пытается показать «изображение возможного» как таковое. Но и благодаря особенностям поверхности (заметным лишь при взгляде на оригинал), необычайной тонкости и гибкости фактуры, которые делают эту картину единственным «кубистским» произведением Дюшана, выдерживающим сравнение с современными ему работами Пикассо и Брака. Если сравнить «Переход» с «Обнаженной № 2», самой удачной после него картиной этого периода, можно отметить значительное изменение живописного чувствования, разделяющее их. «Обнаженная» оставляет впечатление великолепной живописи при взгляде издалека, но вблизи выдает неуверенность, с которой Дюшан справляется (или не может справиться) с хроматическими переходами. Картина «держит удар» за счет своей линейности: ее пространство образуют относительно разрозненные контрасты насыщенности, связываемые штрихами черного и светлой охры, которые «компенсируют» немного натянутую игру мазков. «Переход» бесконечно более malerisch39, отчего его название еще красноречивее: в самом деле, не столько рассеянные по поверхности штрихи, сколько именно хроматические переходы рождают на сей раз пространственные впадины и выступы. В этой картине есть твердость руки, которой мы больше не найдем у Дюшана и которая позволяет Роберу Лебелю сказать, что «здесь Дюшан довел свое живописное мастерство до совершенства»40. В живописном плане «Переход» доказывает, что становление-живописцем могло действительно осуществиться внезапно, раз и навсегда состояться в пределах одной картины, которая, ведя от элементарного мазка к целостному пространству, от зашифрованной образности к ясности названия, совершает обряд перехода молодого человека в ранг зрелого живописца. Мы никогда не узнаем, сколь многого внимания, старания, самоотдачи, любви к живописи потребовал этот переход от Дюшана. Но у нас есть его живописное свидетельство, и оно доказывает безупречный изоморфизм того, что заявлено в названии, скрытой и явной иконографии, к которой это название отсылает, и пластического действия41. Этот изоморфизм исключительно ценен тем, что позволяет судить о желании Дюшана и его осуществлении, которое уже не является только лишь воображаемым. Чувства Дюшана по отношению к живописи очень двойственны или, точнее, амбивалентны: он любит и ненавидит ее. Он — в достаточной мере живописец, чтобы его главным органом был глаз, а любимым «объектом-а» — взгляд; и в недостаточной мере, чтобы диктовке взгляда покорно следовала его рука. Его оценка живописи других проницательна, его суждения точны (как это докажет гораздо позднее — и вопреки всегда узнаваемой снисходительности — каталог «Анонимного общества»), себя он оценивает достаточно трезво, чтобы понимать, что не родился живописцем. Ему присуще острое чувство историчности модернистской живописи, он знает, что живописность не является делом вкуса, что ее залог —стратегии, изменяющие вкус; но также он знает, что, хотя эти стратегии наверняка исторически значимы, они отнюдь не произвольны или легко управляемы. Он не безразличен, вне зависимости от того, себя оценивает или других, к терапевтической — катартической и гедонистической — силе искусства; но он догадывается о том, что истина искусства скорее на стороне желания, чем на стороне удовольствия. Он осознает, что его век пустился на поиск некоей чистой визуаль-ности, в которой якобы заключена сущность живописи; но он не в силах поверить, будто живописная мысль может всецело выразиться на уровне сетчатки. Он любит в живописи la cosa mentale12, но он знает, что умственное должно воплотиться в видимом, дабы не оказаться литературой или философией и не перестать быть живописью. Наконец, он наверняка чувствует, что слово «искусство» уже не связано неразрывно со словом «живопись», а статус художника — со статусом живописца, но что его личная судьба и его «семейный роман» не оставляют ему иного выбора, кроме как прийти к одному через другое. Короче говоря, мысль Дюшана в Мюнхене должна была ветвиться в бесчисленных направлениях — личных, семейных, исторических, эстетических, культурных, которые однако сосредоточивались вокруг общей точки неопределенности: живопись как сказ/живопись как дело. С одной стороны —живопись как рассуждение, мысль, философское воображение, истина и язык; с другой — живопись как ап13, умение, работа, рукотворный труд, присутствие и вещь. В его терминологии: с одной стороны — серое вещество, с другой — обонятельная мастурбация. Своего рода чудо, каковым является «Переход от девственницы к новобрачной», заключается в том, что он удерживается в этой точке неопределенности, в неподвижности и приостановке, и решает в пользу обеих альтернатив: картина делает то, что говорит, и говорит то, что делает. Как в названии, так и в изображении здесь совершается переход, прорыв, вспышка символического как такового, поскольку складывающееся означающее еще не принадлежит к порядку сформированного языка, но уже не растворяется в аполло-ническом, воображаемом удовольствии эстетического взгляда. И тем не менее этот переход совершается на наших глазах, эстетически и пластически: в безвременном Эоне возможной взаимности он становится изображением и пространственным свидетельством. Именно здесь его «функция истины».