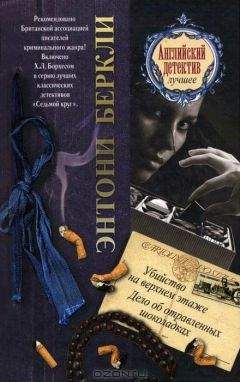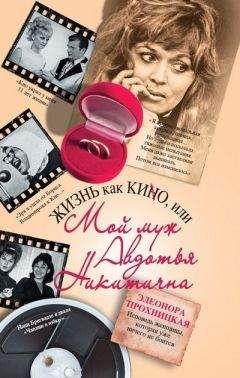Ознакомительная версия.
«Что это со мной? Неужели это от работы?» – мысленно спрашивала она себя, но не успела ответить на этот вопрос: ее охватил здоровый, крепкий сон рабочего человека.
Жизнь в доме Скороспеловых шла однообразно, дни различались для Федосьи Яковлевны только по тем работам, какие она должна была делать: в понедельник у неё была стирка белья, во вторник и пятницу печение хлеба, в воскресенье пироги, в субботу мытье полов и обмыванье детей в бане. И Анне пришлось вести такую же, непривычную для неё трудовую жизнь. Определенных обязанностей у неё не было: она должна была только помогать хозяйке; но эта хлопотливая хозяйка, привыкшая с ранних лет работать и работать без отдыха и перерыва, всегда, каждую минуту находила новое дело и для себя, и для неё. Все эти дела были так необходимы, так неотложны, что отказаться от них не представлялось никакой возможности. Анна, вяло и неохотно работавшая в приюте, привыкшая к полному безделью у Постниковых, сильно уставала первое время. Руки болели, спина ныла, ноги подкашивались. Яркое осеннее солнышко манило ее на улицу, но признаться в этом Федосье Яковлевне было невозможно: Федосья Яковлевна, сама не знавшая ни слабости, ни усталости, ни желанья погулять, посидеть сложа руки, не признавала ничего подобного и в других. «Устать от качанья ребенка, от уборки комнат, от чистки посуды, – какие выдумки!» Анна слышала, с каким презрением она отзывается о барынях, приезжавших иногда покупать зелень на огороде: – им все трудно, от всего ручки, ножки болят, точно и не люди, право; слышала, как она бранит соседок, сходившихся у колодца и за болтовней забывавших, что дома нужна вода, или девушек, прогуливавшихся в будни по улицам, – и ей стыдно было признаться, что ее саму тянет иногда и поболтать, и погулять с другими. Еще если бы Федосья Яковлевна обращалась с ней повелительно, кричала на нее, строго приказывала ей, тогда наверно в ней проснулось бы прежнее желание не поддаться, постоять за себя. Но ничего подобного не было: Федосья Яковлевна никогда не приказывала, она всегда самым ласковым, дружественным голосом поручала девушке ту или другую работу, которая была так очевидно необходима, что стыдно было отказаться от неё. Если Анна чего-нибудь не исполняла или исполняла дурно, небрежно, хозяйка никогда не бранила, не упрекала ее: она только укоризненно качала головой и сострадательным голосом замечала:
– Что, сердешная, не умеешь? Эх, руки-то у тебя еще непривычные, плохо двигаются. Ну, да не беда, привыкнешь! Давай, я кончу, а ты поскорей…
Анне давалось новое поручение, а хозяйка ловко и проворно доделывала её работу.
Дети очень скоро подметили слабую сторону молодой работницы, нашли средство добиваться от неё всего, чего хотели. Если они сердились, кричали, требовали чего-нибудь с бранью, Анна без церемонии отгоняла их от себя; но когда они подходили к ней с ласково-умильными рожицами, когда они нежно говорили: «моя няня», «миленькая моя», она не могла устоять. И вот, грязные детские ручонки беспрестанно лезли обнимать ее, и она, всегда так жаждавшая ласки, любви, забывала ради этой детской ласки и свою усталость, и свое желание погулять, отдохнуть.
– Избалуешь ты мне ребят! – замечала иногда Федосья Яковлевна, видя как девушка, между двух спешных работ, то вьет кнут для Сени, то шьет куклу для Дуни, то таскает на спине громко хохочущего Ваню. – Как есть избалуешь! Дай ты им хороший щелчок, чтобы они к тебе не лезли…
Но, говоря эти суровые слова, мать с любовью посматривала на своих птенцов, и ей приятно было, что молодая девушка так ласкова и добра к ним.
– Экий клад послал нам Бог! – толковала Федосья Яковлевна с мужем. – Такая славная эта Аннушка, и честная, и работящая, и детей любит! Ужо пойду к Аленушке, поблагодарю, что предоставила нам ее…
Алена повторяла Анне все похвалы, какие о ней слышала, и Анна краснела от удовольствия.
– Видишь, – прибавляла Алена, – правду я говорила: будешь ты работать, как следует, никому не стать тебя обижать, потому, известно, ты не из милости живешь, ты человек нужный.
Приятно было Анне чувствовать, что наконец она перестала быть лишней, что она «нужна», и она все больше и больше старалась угождать своим хозяевам.
Почти два года прожила Анна у Скороспеловых. Из девочки-подростка она превратилась в совершенно взрослую девушку, – высокую, стройную, с сильными руками и загрубелым лицом. Если бы кто-нибудь спросил у неё: счастлива ли она, довольна ли своей судьбой, она сморщила бы свои темные брови и сурово ответила бы: «Чего там недовольна? Живу, как все!»
Сама себе она никогда не задавала подобных вопросов: ей было некогда. Переделав все бесчисленные работы Федосьи Яковлевны да повозившись, кроме того, с пятью детьми, ей хотелось спать и спать, а не раздумывать да грустить.
– Что ты, Аннушка, так привязалась к огороднице, – говорили ей иногда соседи и даже Алена. – Ты, ведь, почитай, задаром у неё живешь! Ты теперь работница, как надо быть, могла бы место получше найти, с хорошим жалованьем…
Анне подобные советы казались нелепыми. Ей уйти от Федосьи Яковлевны, которая всегда так добра к ней, от милых деток, которые так крепко целуют ее? Да разве это возможно?.. Если ей случалось отлучаться куда-нибудь из дому на час, на два, то при возвращении Федосья Яковлевна всегда встречала ее восклицанием:
– Ну, слава Богу, что ты пришла, Аннушка! А я без тебя, как без рук.
Дети бросались к ней с криками:
– Няня, милая, иди скорей! Мы все тебя ждали!
Когда, в праздничный день, она просилась у хозяйки в церковь или в гости, Федосья Яковлевна не удерживала ее, но обыкновенно тяжело вздыхала, говоря:
– Что же! Известное дело: молодой человек, повеселиться хочется, людей посмотреть, себя показать!.. Всем праздник, только мне праздника нет! Ты уйдешь, а мне двойная работа!.. Ну, да иди себе, я тебя не держу, чего тебе для меня сидеть: ведь не мать я тебе в самом деле!
– Няня, не уходи! – кричали дети, цепляясь за нее, и Анна оставалась, забывала о праздничном отдыхе, готова была и работать, и услуживать за то, что ее так любят, так ею дорожат…
Аксинья Ивановна никогда не могла простить Анне, что та решилась уйти от неё, что предпочла место работницы сытной жизни в их доме; но когда Анна стала все реже и реже навещать ее, она окончательно признала свою бывшую воспитанницу бесчувственной и неблагодарной.
– Неужели тебя хозяйка и в Светлый праздник со двора не отпускает? – с неудовольствием спрашивала она.
– Нет, хозяйка ничего, – несколько смущенно отвечала Анна, – а только я сама вижу, что работы много: мне и не охота уходить…
– Не охота? – сердилась Аксинья Ивановна. – Кабы ты помнила нашу хлеб-соль, не говорила бы «не охота»!
– Ах, тетенька, – непременно вмешивался в разговор Алеша, – да что же Анюте до нас? Точно мы ей свои, близкие. Пока мала была, нуждалась в вас – ну, и жила у вас, ласкалась к вам, а теперь вы ей не нужны, так чего же ей к нам ходить?
Аксинья Ивановна вздыхала, а Анна должна была делать большие усилия над собой, чтобы, по старой памяти, не прибить и не вытолкать за дверь дрянного мальчишку.
Кончилось тем, что, избегая неприятных объяснений и колких намеков, она совсем перестала ходить к Постниковым, и Аксинья Ивановна еще раз убедилась, что «Алешенька всегда правду говорит, он всякого человека хорошо понимает».
Кроме Постниковых, Анне не к кому было ходить. Прежние подруги, знавшие ее как воспитанницу богатого купца, теперь не кланялись ей и никогда не подумали бы пригласить к себе в гости эту простую работницу в полинялом, заплатанном ситцевом платье. Новых знакомств ей было некогда заводить, а к Скороспеловым почти никто не ходил в гости; разве иногда соседка забежит к Федосье Яковлевне, попросить сковороду или утюг, да заболтается и согласится выпить чашку-другую чаю.
Да и не надо было Анне гостей, не надо знакомых. Дома все добрые, все любят ее; зачем же ей чужие? А еще соседи говорят, чтобы она искала другого места, где дадут побольше жалованья. Какая глупость! На что ей жалованье? Наряжаться? Накупать себе красивых платьев? Но ведь она знала, что она нехороша собой. «Нарядишься, так, пожалуй, еще больше будешь похожа на воронье пугало», – думала она, оглядывая себя в маленькое зеркальце, висевшее над комодом Федосьи Яковлевны. У Постниковых она носила и хорошие платья, и шелковые платочки, да разве она жила счастливо? Нет, вовсе не того ей нужно. Она нисколько не завидовала ни тем богатым барыням, которые в собственных экипажах приезжали на огород к Ивану Прохоровичу, ни тем девушкам, которых она встречала в церкви и на улице; не завидовала и Алеше, который все больше и больше пользовался милостями дяди и тетки, ходил настоящим франтом – в сюртуке, пестром галстуке, с часами на толстой вызолоченной цепочке. На все это она смотрела совершенно равнодушно. Но сердце её болезненно сжималось, когда она видела, как грубая мозолистая рука Федосьи Яковлевны нежно ласкала белобрысые головки её маленьких буянов; она не могла удержаться от слез, когда Иван Прохорович, всегда такой кроткий и тихий, чуть не прибил соседку за то, что она смела обидеть его Дуню. Ребенком она злилась на тех, кого любили и ласкали больше, чем ее, – теперь она не чувствовала злобы ни против кого; ей было только до боли жалко саму себя, и, чтобы заглушить это тяжелое чувство, она хваталась за первую попавшуюся работу, и работала, и работала, пока усталость не начинала одолевать ее, и сон не слепил ей глаза.
Ознакомительная версия.