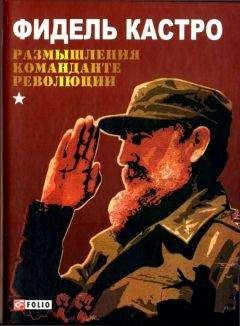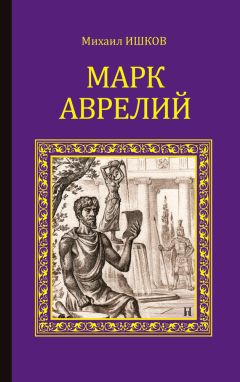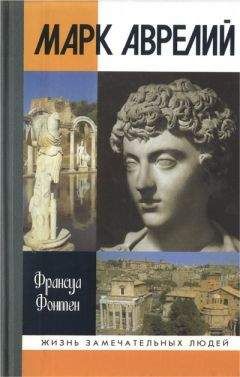35. Здоровому глазу надо глядеть на все, что зримо, а не говорить «Зеленого мне!» Ибо это для больного глазами. И слух здоровый, и обоняние должны быть готовы что бы то ни было слушать и обонять. И желудку здоровому относиться к любой снеди так, как жернов ко всему, что ведено ему перемалывать по его устроению. Точно так же и здоровое разумение должно быть готово ко всему, что происходит; если же оно говорит: «Дети были б здоровы» или «Пусть все хвалят все, что я делаю», так это глаз, ищущий зеленого, или зуб — нежного.
36. Нет такого счастливца, чтобы по смерти его не стояли рядом люди, которым приятна случившаяся беда. Был он положителен, мудр — так разве не найдется кто-нибудь, кто про себя на прощанье скажет: «наконец отдохну от этого воспитателя. Он, правда, никому не досаждал, но я-то чувствовал, что втайне он нас осуждает». Это о человеке положительном. А в нас сколько всякого, из-за чего многие мечтают распроститься с нами! Ты, как будешь умирать, помысли об этом; легче будет уйти, рассуждая так: ухожу из жизни, в которой мои же сотоварищи, ради которых я столько боролся, молился, мучился, и те хотят, чтобы я ушел, надеясь, верно, и в этом найти себе какое-нибудь удобство. Что ж хвататься за дальнейшее здесь пребывание? Ты, конечно, не будь из-за этого менее благожелателен к ним, а сохрани свой нрав и уходи другом их, преданным и кротким. Но конечно и не так, будто тебя оттаскивают; нет, как у того, кто умирает тихо, душа легко выпрастывается из тела, таково должно быть удаление от этих людей. Ведь и с ними природа связала, соединила, а теперь, значит, отвязывает. Я и отвяжусь как от близких, однако, не упираясь, не приневоленно, потому что и это по природе.
37. Приучись, что бы кто ни делал, по возможности спрашивать себя: куда ж он метит? А начинай с себя, и прежде всех себя изучай.
38. Помни: приводящее в движение — это то, спрятанное внутри; это там убедительное слово, там жизнь, там, скажем прямо, человек. Никогда не мысли заодно с ним облекающий его сосуд и эти прилепленные к нему орудия — они вполне похожи на тесала; то и отличие, что приросли. Потому что вне причины, управляющей их движением или покоем, эти доли много ли ценнее, чем игла ткачихи, тростинка писца или кнут возницы?
1. Свойства разумной души: самое себя видит, себя расчисляет, делает себя такой, какой хочет, плод свой сама же пожинает (ведь плоды растений и то, что соответствует этому у животных, пожинают другие), приходит к своему назначению, когда бы ни поставлен был предел жизни. Тут не то, что в пляске, лицедействе или ещё в чем-нибудь таком: вмешается что-нибудь — и все действо не завершено. Нет, в любой части и где бы её ни захватили, она делает полным и самодостаточным то, что сама себе положила, как будто говорит: что моё, то при мне. А ещё она обходит весь мир и пустоту, его окружающую, и его очертания, распространяется на бесконечность времен, вмещая в себя и всеобщие возрождения после кругообращений; и их она охватывает, обдумывает и узревает, что не увидят ничего особенно затейливого те, кто после нас, как не видали ничего особенно хитрого те, кто были до нас. Нет, сорокалетний, если есть в нем сколько-нибудь ума, благодаря единообразию так или иначе все уже видел, что было и будет. Свойственны также душе разумной и любовь к ближнему, и правда, и стыд, и то, чтобы не предпочитать ничего себе самой, как это свойственно и закону. Ничуть, таким образом, не различаются прямой разум и прямая справедливость.
2. Пренебрежешь песней прелестной, пляской, двоеборьем, если разделишь цельное звучание на отдельные звуки и о каждом спросишь себя: что, действительно он тебя покоряет? Ведь отвернёшься же! Вот и с пляской так, во всяком её движении или положениях; то же и с двоеборьем. В целом: за исключением добродетели и того, что от нее происходит, не забывай спешить к составляющим, а выделив их, приходить к пренебрежению. Это же переноси на жизнь вообще.
3. Какова душа, которая готова, когда надо будет, отрешиться от тела, то есть либо угаснуть, либо рассеяться, либо пребыть. И чтобы готовность эта шла от собственного суждения, а не из голой воинственности, как у христиан, — нет, обдуманно, строго, убедительно и для других, без театральности.
4. Сделал я что-нибудь для общества — сам же и выгадал. Пусть это будет у тебя под рукой и всякий раз является; и не прекращай никогда.
5. У тебя какое искусство? — Быть добротным. А может ли это хорошо произойти иначе, как по правилам учения — тем ли, что относятся к природе целого, или же тем, что относятся к собственно человеческому устроению?
6. Сперва вывели трагедию в напоминание о том, чтб случается и что по природе это случается, и если в театре увлекаетесь этим, так не тяготитесь этим же самым в театре просторнейшем. Вы же видите, что так и надо этому свершаться, и что сносят это и те, кто вопит «О-о, Киферон!». К тому ж некоторые вещи у сочинителей этих выражены дельно — вот, скажем, такое: «Пренебрегли детьми и мною боги — что ж! Знать, есть и в этом смысл…», или опять же: «На ход вещей нам гневаться не след», или ещё: «Жизнь пожинать, как в пору зрелый злак», и сколько ещё такого. После трагедии вывели древнюю комедию, полную воспитующей смелости и прямотой речей дельно напоминающую о том, что никому не пристало ослепление. Вот зачем Диоген это перенял. После была некая средняя комедия и, наконец, новая; перенята ли она вообще зачем-нибудь или потихоньку соскользнула к чрезмерному подражанию — поди узнай. Ведь известно, что и эти кое-что дельно говорят, но общая-то задача таких произведений и драматического искусства — какую цель перед собой имела?
7. Каким образом ясно является уму, что нет в жизни другого положения, столь подходящего для философствования, как то, в котором ты оказался ныне.
8. Ветка, отрубленная от соседней ветки, непременно уже отрублена и от всего растения. Точно так человек, отщепленный от одного хотя бы человека, отпал уже от всей общности. Да ветку-то хоть другой отрубает, а человек сам отделяет себя от ближнего, если ненавидит и отвращается, того не ведая, что заодно и от всей гражданственности себя отрезал. И тут — дар Зевеса, зиждителя общности: дано нам вновь срастись с соседом и вновь составить целое. Ну конечно, если то, что сопряжено с таким разделением, будет случаться не раз, то, зайдя далеко, произведет малосоединимое и маловосстановимое. Да и вообще не одинаковы ветка, изначально единорастущая и не изменившая единодушию, и наново привитая после того, как была отрублена, — что бы ни говорили садоводы. Единорастущий — и не единомысленный!
9. Те, кто становится тебе поперек, когда ты идешь вперед сообразно прямому разуму, от здравого деяния тебя не отвратят и твоей к ним благожелательности пусть не лишатся. Равно заботься о двояком: не о том только, чтобы суждения и деяния твои были устойчивы, но также и о том, чтобы оставаться мягким в отношении тех, кто собирался тебе помешать или как-нибудь ещё досадить. Потому что бессильно и это, на них досадовать, точно так же как отступиться от своего дела или поддаться смятению. Ведь оставляют боевой строй оба — и тот, кто дрогнул, и тот, кто отчуждается от своего единоплеменника и друга по природе.
10. «Искусства выше всякое природное» — оттого искусства и подражают природам. А если так, то уж совершеннейшая и самая многообъемлющая из природ не уступит, думается, хотя бы и самой искусной изобретательности. И как все искусства делают более низкое ради высшего, так же точно и общая природа. Вот, вот где рождается справедливость, а из нее возникают остальные доблести — ведь не уследить нам за справедливым, если станем небезразличны к средним вещам или же будем легковерны, опрометчивы и переменчивы.
11. Раз уж сами не приходят к тебе вещи, за которыми ты гонишься и от которых — также в смятении — бежишь, а это ты некоторым образом сам к ним приходишь, то пусть хоть суд-то твой о них успокоится — тогда и они недвижны, и тебя нельзя будет увидеть ни гоняющимся, ни избегающим.
12. Сфера — самоточнейший образ души, когда она не тянется ни к чему и не съеживается внутрь, не рвется сеять и не садится, а светится светом, в котором зрит истину всего и ту, что в ней.
13. Кто-то станет презирать меня? Его забота. А моя забота, как бы не случилось, что я сделал или сказал что-нибудь достойное презрения. Кто-то возненавидит? Его забота. А я, благожелательный и преданный всякому, готов и ему показать, в чем его недосмотр — без хулы, без намека на то, что вот-де терплю, а искренно и просто, как славный Фокион, если, конечно, не притворялся. Потому что надо, чтобы это внутри было и чтобы боги видели человека-несетователя по душевному своему складу, такого, который не кричит, как все ужасно. Потому что если сам делаешь сейчас то, к чему расположена твоя природа, и приемлешь то, что сейчас угодно всеобщей природе, какая беда тебе, человеку, поставленному, чтобы было чрез кого произойти всеобщей пользе?