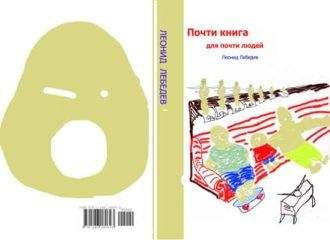другие народы, с нами связанные, всем нам обязанные, тоже начнут реаги-
ровать на трудности болезненно, искать снова смысл существования, пере-
писывать новейшую историю. Пойдет такая во все стороны цепная реакция,
что не удержать развал социалистического мира, пока пристегнутого, не-
смотря ни на что, к российской цивилизации. Такими или примерно такими
были умствования Москвы.
На этом отрезке истории наша цивилизация оказалась во власти кучки
посредственностей, самих себя назначивших править империей, края кото-
рой они едва различали давно не молодыми глазами. Мудрость уступила ме-
сто воинственности, мы почти не выходим из войн с врагами внешними и
внутренними. Воинственности у нас в крови, как гемоглобина. И когда со-
седний народ вдруг попробовал жить иначе, как живут другие европейцы,
как когда-то жил он сам, открыто выражать свои мысли, обходиться без цен-
зуры, придать мироустройству, как бы оно ни называлось, спокойные черты,
Москва занервничала настолько, что от нее всего можно было ожидать. Тем
более в ситуации путаной: враг вроде бы внутренний, свой, даже «братский»,
но юридически внешний.
Если власть настораживала каждая строптивая индивидуальность, то
можно представить, что она чувствовала, когда вернуть свою индивидуаль-
ность захотел целый народ. Чехословацкие реформы ставили под сомнение
уверенность кремлевских лидеров в их избранности или, по Л.Зорину, «гене-
тической элитарности».
Лучшие европейские умы присматривались к усилиям пражских ро-
мантиков трансформировать одну хозяйственную систему в другую и убеж-
дали Москву, что странам, связанным в общий блок, это ничем не грозит, но
может появиться новый опыт, полезный всем. Было очевидно, что дом раз-
валивается, жить в нем опасно, кто-то должен начать реконструкцию, не до-
жидаясь обвала стен. Реформаторы, принимаясь за дело, гнали из памяти
уроки сталинского СССР и готвальдовской ЧССР, старались забыть о проли-
той в таких случаях крови и с упованием на успех начинали ломать под до-
мом фундамент, на котором держался не только их дом, но квартал. На языке
ортодоксов это было перерождение компартии в социал-демократическую,
отход от принципов марксизма-ленинизма, начало движения Чехословакии
к буржуазной республике. Как ни относиться к идеологам Кремля сорок лет
спустя, их оценка тогдашнего вектора движения была безошибочной.
…Брежнев пишет письмо Александру Дубчеку, или Саше, как по праву
старшего обращается к нему. «Сижу, сейчас уже поздний час ночи. Видимо,
долго еще не удастся уснуть, в голове теснятся впечатления от только что
закончившегося Пленума ЦК КПСС и разговоров с секретарями ЦК республик
и обкомов партии. Пленум прошел хорошо. Если сказать коротко, на Пленуме
речь шла о нынешнем обострении классовой борьбы между двумя мировы-
ми системами, о месте и роли в этой борьбе коммунистических партий, рабо-
чего класса, социалистического лагеря и сил мирового коммунизма…»
На настольном календаре 15 апреля 1968 года.
«…И, как всегда, в таких случаях думаешь не только о своих делах, но и о
своих друзьях, братьях, борющихся рядом, в одной линии нашего обширного
и сложного фронта. Хотелось бы вот сейчас побеседовать, посоветоваться с
тобой, но увы, даже и по телефону звонить сейчас поздно. Хочу положить
свои думы на бумагу, не очень заботясь об отшлифовке выражений…» 2
Брежнев поднимает голову.
За столом члены Политбюро и секретари ЦК КПСС. Это их идея послать
Дубчеку личное письмо, ни к чему не обязывающее, и попытаться располо-
жить к себе, пока события не зашли слишком далеко. Жаркий полдень, солн-
це бьет в высокие кремовые шторы. Брежнев пишет под диктовку соратни-
ков, но своей рукой; у него почерк прилежной курсистки, округлый и четкий.
Как это выглядело, мне потом расскажет А.М.Александров-Агентов, помощ-
ник Генерального секретаря:
«Хорошо помню то заседание Политбюро. Пятнадцать человек сидят и
редактируют письмо Дубчеку. Каждый вносит свои поправки, спорят друг с
другом. Бурные события в Чехословакии для нас совершенно неожиданны.
Это не то, что восстание в Венгрии. Там все более или менее ясно: под окна-
ми Андропова вешали вниз головой коммунистов. А в Чехословакии идет
бескровный политический процесс, очень быстро развивающийся. Это вы-
зывало у наших товарищей оторопь» 3.
Раздражала странная лексика реформаторов, у коммунистов не приня-
тая. «Интеллектуалы Европы…», «Идеологи пытаются обезоружить разум…»,
«Мы за господство терпимости и разнообразия…». Где тут марксизм? На
площади хлынул революционный романтизм; коробит и задевает взаимная
у чехов симпатия «верхов» и «низов». И сильно раздражает своеволие. «Вы
думали, что, поскольку вы были у власти, вы могли делать все, что вам нра-
вится, – скажет потом Брежнев Богумилу Шимону, соратнику Дубчека. – Это
была ваша основная ошибка. Даже я не могу делать, что хочу» 4.
Тут важно вот это – даже я.
Брежневу не хочется верить, что Дубчек, воспитанный в СССР, вернув-
шийся в Чехословакию семнадцатилетним, верный ленинским идеалам, ка-
ких у кремлевского руководства давно не было, задумал порвать с социа-
лизмом. Как он порвет? Даже реформировать свою страну без советской
поддержки он не может и отлично это знает. Потому ищет у Брежнева пони-
мания, почтительно держит себя с ним как со старшим. В брежневских пись-
мах – «Дорогой Саша…», в дубчековских ответах – «Дорогой Леонид Ильич…».
У Дубчека и Брежнева разные СССР.
Для первого – это молодое государство рабочих и крестьян, страна пя-
тилеток, стахановского труда, героических папанинцев, перелета Чкалова
через полюс в Америку. «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка…»
Рабочие Европы и всего мира видят в русской революции начало новой ис-
тории человечества. Не только чехи, многие европейские интеллектуалы, в
том числе известные, признавали будущее за Советским Союзом.
А для второго – это всегда окруженная врагами, дразнящая мировой
империализм, сильная военная держава с ракетно-ядерными установками и
с мессианским предназначением. Страна, где на кухнях, убавив громкость
радиоприемников, сквозь треск глушилок интеллигенция ловит чужие пе-
редачи, переписывает запретные песни Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Галича.
Члены и секретари Политбюро, командующие войсками, даже генералы КГБ
на подмосковных дачах этим тоже грешат, довольные своею смелостью, ил-
люзией единения с народом.
Брежнев продолжает письмо.
«…Дорогой Александр Степанович! – он водит ручкой по бумаге, слушая
подсказки. – Я искренне надеюсь, что ты поймешь и извинишь мою откро-
венность, зная, что она вытекает из добрых чувств. Как своему товарищу, хо-
чу высказать некоторые мысли, которые меня беспокоят… Читая ваши мате-
риалы, создается впечатление, что в сложившейся обстановке вы пытаетесь
найти немедленное разрешение всех накопившихся вопросов. Такое желание
можно понять. Однако скажу откровенно – жизнь и опыт показывают, что
нередко поспешность в исправлении недостатков, ошибок, разрешение воз-
никших вопросов, желание решать все разом может повлечь за собой новые,
еще более тяжелые ошибки и последствия. Поэтому хочется сказать, не ви-
дишь ли ты опасности в том, что одновременное разрешение широкого кру-
га сложных проблем, по которым могут возникнуть разногласия, может за-
труднить начатый сейчас весьма важный процесс консолидации…» 5
О том, как коллективно сочинялись брежневские личные письма мне
расскажет и посол в Чехословакии С.В.Червоненко. «Мы сидели за столом в
один ряд, а Брежнев против нас. Чтобы придать больше, так сказать, довери-
тельности, решили не на машинке печатать письмо Дубчеку, а он садился и
своей рукой писал. Мы обсуждали все фразы. И когда писать “Александр”, а
когда “Саша”. Он ему обычно говорил – Саша… И на полутора или двух руко-
писных страницах выражалось беспокойство нашего руководства: ссылка на
народ, что люди переживают – участники освобождения. Вы представляете,
как следовало писать, чтобы напомнить прошлое и привлечь внимание к
настоящему. И такие обороты: “Я с тобою…”, “Ты помнишь…”, “Когда были в
Праге, ты сказал…”, “А события вот как…” И все подводится к мысли: ты же
сам понимаешь, это может прахом пойти, в общем, подумай обо всем, ты же
пользуешься уважением. Раз твое влияние такое, надо прекратить антисове-