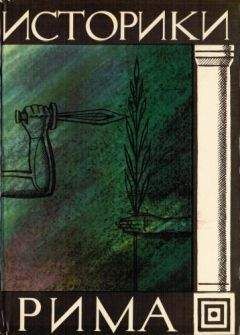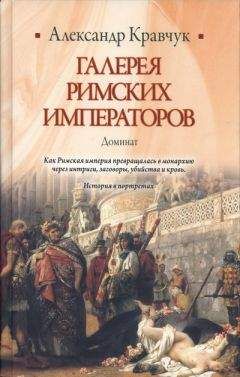Проведав, что помешать его планам прибыли люди известные и, как он слышал, очень влиятельные в Риме, Югурта сперва разрывался между страхом и желанием: он боялся гнева сената, если не подчинится послам, но дух, ослепленный страстью, неудержимо тянуло к начатому преступлению. В конце концов злой умысел взял верх в алчном сердце, и, окружив Цирту, он употребляет все меры, чтобы ворваться в город, твердо надеясь найти либо прямой, либо обходный путь к победе, если силы врага будут рассредоточены. Но вышло по-иному, он не достигнул того, к чему стремился, не захватил Адгербала прежде, чем встретиться с послами, и, чтобы не раздражать дальнейшим промедлением Скавра, которого боялся всего больше, с немногими всадниками прибыл в Провинцию. От имени сената ему были сделаны самые грозные предупреждения за то, что он не снял осады, и, однако же, после долгих переговоров послы уехали ни с чем.
XXVI. Когда об этом сделалось известно в Цирте, италийцы, — чьим мужеством только и держались стены, — в уверенности, что, на случай сдачи, их охраняет величие римского народа, принялись убеждать Адгербала, чтобы он сдался сам и сдал город Югурте, не выговаривая ничего, кроме жизни: об остальном позаботится римский сенат. Хотя Адгербал скорее поверил бы чему угодно, нежели слову Югурты, но италийцы могли бы и принудить его — и он последовал их совету. А Югурта первым делом умертвил в жестокой пытке Адгербала, а затем перебил всех взрослых нумидийцев и купцов без разбора — всех, кто попался с оружием в руках.
XXVII. Когда весть о случившемся дошла до Рима и стала предметом обсуждения в сенате, все те же прислужники царя, затягивая время то запросами, то обращениями к друзьям, а то и перебранкою с противниками, пытались утишить ужас, вызванный этим злодейством. И если бы не Гай Меммий, избранный народным трибуном на следующий год, человек деятельный, враг могущественной знати, который объяснил римскому народу, что происходит, — что немногие, но сильные своими приверженцами люди стараются оставить безнаказанным преступление Югурты, вся ненависть наверняка исчерпалась бы в этих затянувшихся обсуждениях: так велики были влияние царя и власть его денег. Но сенат сознавал свою вину и боялся народа, а потому, в согласии с Семпрониевым законом,139 назначил провинциями для будущих консулов Нумидию и Италию. Консулами были избраны Публий Сципион Назика и Луций Кальпурний Бестиа; Кальпурнию досталась Нумидия, Сципиону — Италия. Затем объявили набор войска, предназначенного для Африки, определили расходы на жалование и все прочие надобные для войны затраты.
XXVIII. Югурта, твердо уверовавший, что в Риме все продажно, был поражен; он отправляет к сенату сына и двух близких друзей и дает им тот же наказ, что посольству, которое отряжал после убийства Гиемпсала, — подкупать всех подряд. Когда они подъезжали к Риму, консул Бестиа обратился к сенату с запросом, угодно ли ему принять послов Югурты в городских стенах, и сенат постановил: нумидийцам покинуть Италию в течение ближайших десяти дней, если только они не привезли весть о сдаче царства и самого царя. Консул приказывает известить послов о решении сената, и они пускаются в обратный путь, ничего не достигнув.
Между тем войско было набрано, и Кальпурний подыскивает себе помощников среди людей знатных и влиятельных, чтобы их влиянием покрыть все свои будущие проступки. (В числе помощников оказался и Скавр, о нраве и повадках которого мы уже упоминали.) Дело в том, что наш консул отличался многими замечательными качествами души и тела — был неутомим в трудах, остер умом, достаточно осмотрителен, прекрасно сведущ в военном искусстве, неустрашим в опасностях, недоступен для вражеского коварства, — но все эти достоинства опутаны были алчностью.
Легионы прошли по Италии в Регий,140 оттуда их перевезли в Сицилию, а из Сицилии в Африку. Запасшись продовольствием, Кальпурний стремительно вторгся в Нумидию, с боем взял несколько городов, захватил много пленных.
XXIX. Но когда Югурта через своих посланцев начал соблазнять его деньгами, а вдобавок намекнул на трудности войны, которою ему предстояло руководить, дух, больной корыстолюбием, легко уступил. Своим помощником, сообщником во всех планах консул сделал Скавра, который прежде, когда большинство единомышленников из одного с ним стана уже были подкуплены, непримиримо враждовал с царем, но теперь огромность платы свела его с пути добра и чести. Сперва Югурта хотел получить лишь отсрочку в войне, надеясь тем временем чего-нибудь добиться в Риме деньгами или влиянием друзей. Но, узнавши, что в дело втянут Скавр, он исполнился уверенности, что мир будет восстановлен, и решил сам обсудить с римлянами каждое из условий договора. Консул отправляет в город Югурты Вагу квестора Секстия — в действительности заложником, а по видимости — для приемки продовольствия, которое Кальпурний во всеуслышание потребовал у царских послов, когда, впредь до сдачи, было объявлено перемирие. Югурта, как и надумал заранее, прибыл в лагерь; перед советом141 он держал краткую речь — о ненависти, предметом которой был его поступок, о своем согласии сдаться — об остальном же тайно столковался с Бестией и Скавром. На другой день голосовали безо всякого порядка, и изъявления покорности были приняты. По требованию военного совета, Югурта выдал квестору тридцать слонов, много скота, лошадей и небольшую сумму денег. Кальпурний уехал в Рим руководить выборами.142 Нумидия и наше войско вкушали мир.
XXX. После того, как события в Африке сделались достоянием молвы, повсюду в Риме, во всяком собрании, только и было разговоров, что о поведении консула. Народ был в ожесточении, сенаторы — в замешательстве: одобрить ли столь возмутительный проступок или отменить решение консула? Сила Скавра, который, как утверждали, был для Бестии и советником и союзником, — вот что всего больше мешало им заступиться за истину и справедливость. Но меж тем как сенат колебался и медлил, Гай Меммий — о его независимом нраве и ненависти к могущественной знати мы уже говорили раньше — на сходках призывал народ к мести, призывал защитить государство и собственную свободу, напоминал о высокомерии знати, перечислял ее жестокости — одним словом, всячески разжигал гнев простого люда.
Красноречие Меммия было тогда в самом расцвете и пользовалось громкой известностью в Риме, а потому я счел уместным привести здесь одну из столь многочисленных его речей и отдал предпочтение той, которую он произнес перед народом после возвращения Бестии. Вот примерно, что он сказал:
XXXI. «У меня достаточно оснований не выступать перед вами, квириты, да только любовь к государству перевешивает их все — и влиятельность знати, и ваше равнодушие, и общее презрение к праву, и, главное, то, что нравственная чистота сопряжена скорее с опасностями, нежели с почетом. Не хотелось бы мне вспоминать, как вот уже пятнадцать лет143 служите вы посмешищем для гордыни немногих, как позорно погибли ваши защитники и как смерть их осталась неотмщенной, как сами вы погрязли в праздности и безволии настолько, что даже теперь, когда враги ваши связаны виною, не дерзаете подняться, даже теперь боитесь тех, кому сами должны бы внушать ужас! Все это так, и, однако же, я обязан оказать сопротивление могуществу знатных. Я непременно попытаюсь воспользоваться свободою, которую завещал мне мой отец, но будет ли попытка удачной или бесплодной, зависит от вас, квириты.
Я вовсе не зову вас бороться с несправедливостью вооруженной рукой, как часто поступали ваши предки. Нет нужды ни в насилии, ни в бегстве — следуя своим правилам, ваши противники неизбежно погибнут сами. После убийства Тиберия Гракха, которого они обвиняли в стремлении к царской власти, простой люд Рима изводили расследованиями; были убиты Гай Гракх и Марк Фульвий — и снова многие из вашего сословия сложили головы в темнице; и в обоих случаях предел вашим бедствиям положил не закон, а лишь произвол знати. Впрочем, пусть даже так — пусть возвращать народу его права означает готовить себе царский венец,144 пусть всякая месть, сопряженная с гражданским кровопролитием, считается оправданной. В прежние годы мы молча негодовали, глядя, как расхищается казна, как подати от царей и свободных народов стекаются в кошельки немногих знатных, как одни и те же люди владеют и высшею славою, и несметными богатствами. Однако же и всего этого, и полной своей безнаказанности им было мало — они предали врагам ваши законы, ваше величье, все сокровища, божеские и человеческие! И никому из них не стыдно, никто не жалеет о содеянном — напротив, горделиво красуются они перед вами, чванясь своими жречествами, консульствами, а кто и триумфами, так, словно бы это им в честь, не в наживу! Рабы, купленные за деньги, не желают переносить несправедливой власти господ, а вы, квириты, рожденные властвовать, согласны равнодушно терпеть рабство? А кто они, те, что правят государством? Опаснейшие злодеи, их руки в крови, их алчность ненасытна, они повинны во всех преступлениях и тем не менее полны высокомерия, для них во всем барыш — в верности, в славе, в страхе перед богами, во всем честном и бесчестном. Одни умертвили народных трибунов,145 другие вели противозаконные расследования, большинство громило вас и убивало — и все в безопасности: чем хуже кто бесчинствовал, тем надежнее он защищен. Собственный страх, который должно было породить преступление, они сумели внушить вам, воспользовавшись вашим малодушием, потому что всех их сплотила воедино общая страсть, общая ненависть, общие опасения. Такая сплоченность меж добрыми зовется дружбой, меж худыми — заговором. Если бы вы с тем же усердием пеклись о вашей свободе, с каким они рвутся к власти, конечно, государство не было бы в таком расстройстве, как ныне, и ваша благосклонность была бы отдана самым лучшим, а не самым наглым. Добиваясь своих прав и закладывая основы римского величия, ваши предки дважды вооружались и уходили на Авентин146 — почему же вы не напряжете всех сил на защиту той свободы, которую получили от них в наследие? И тем решительнее вдобавок, что потерять приобретенное — позорнее, нежели вообще ничего не приобрести.