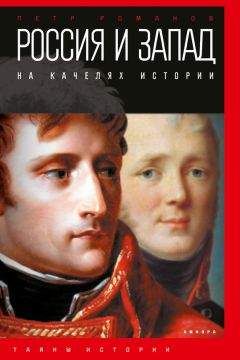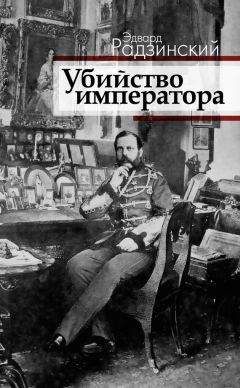Владимире Соловьеве. Чтобы представить себе, насколько странным было это предложение, надо знать, конечно, кто был Соловьев и кто Чаковский. И почему, собственно, обратился он с такой неожиданной просьбой именно ко мне.
Владимир Сергеевич Соловьев умер в 1900-м на 48 году жизни. Был он сыном знаменитого историка и основателем «русской школы» в философии. В 1880-е он пережил мучительную духовную драму, сопоставимую разве что с аналогичной драмой фарисея Савла, внезапно обратившегося по дороге в Дамаск в пламенного апостола христианства Павла. Бывший славянофил Соловьев не только обратился в жесточайшего критика покинутого им «патриотического» кредо и не только очертил всю дальнейшую историю предстоящей ему деградации, но и точно предсказал, что именно от него Россия и погибнет.
Случаев, когда крупные русские умы обращались из западничества в славянофильство, было в позапрошлом веке предостаточно. Самые знаменитые примеры, конечно, Достоевский и Константин Леонтьев. Никто, кроме Соловьева, однако, не прошел этот путь в обратном направлении. В истории русской мысли остался он фигурой трагической. Но и монументальной. Если его идеи воссоединения христианских церквей и всемирной теократии не нашли последователей и остались в истории лишь курьёзом, то его философия всеединства вдохновила блестящую плеяду мыслителей Серебряного века. И Николай Бердяев, и Сергий Булгаков, и Георгий Федотов, и Семен Франк считали его своим учителем.
Он и Лев Толстой, лишь два человека решились в тогдашней России публично протестовать против казни цареубийц в 1881 году. И говорили они одно и то же: насилие порождает насилие. Оба напророчили, что дорого заплатит Россия за эту кровавую месть.
Константин Леонтьев однажды назвал Соловьева «Сатаною», хотя и признавался с необыкновенной своею отважной откровенностью: «Возражая ему, я все-таки благоговею».[1]
Другое дело Чаковский. По сравнению с Соловьевым, шпана да и только. Сатаною его едва ли кто назвал бы, но благоговения он тоже ни у кого не вызывал. О духовных драмах и говорить нечего. Был он среднесоветским писателем и важным литературным бюрократом, кажется, даже кандидатом в члены ЦК КПСС. Что мог знать он о Соловьеве, кроме того, что тот был «типичным представителем реакционной идеалистической философии»? Имея, впрочем, в виду, что никаких антибольшевистских акций Соловьев - по причине преждевременной кончины - не предпринимал, имя его вполне уместно было упомянуть в каком-нибудь заштатном узко специализированном издании. Но посвятить ему полосу в «газете советской интеллигенции» с миллионным тиражом было бы, согласитесь, событием экстраординарным.Так зачем же могла столь экзотическая акция понадобиться Чаковскому? У меня и по сию пору нет точного ответа на этот вопрос. Хотя некоторые - и весьма правдоподобные - догадки, опирающиеся на компетентные редакционные источники, есть. С ними мы, однако, повременим. Хотя бы потому, что нужно еще объяснить читателю, почему я принял такое невероятное предложение. И почему не показалось оно мне неисполнимым.
В двух словах потому, что мне в ту странную пору всё казалось возможным. Я только что объехал полстраны и отчаянная картина сельской России меня буквально потрясла. Удивительнее всего было, однако, что мне разрешили честно, т.е. без какого бы то ни было вмешательства цензуры, рассказать о ней в наделавшей когда-то много шуму серии очерков на страницах самых популярных газет страны2.
Едва ли может быть сомнение, что кому-то на самом верху такая неприкрытая правда о положении крестьянства в СССР была в тот момент очень нужна. И я со своими очерками пришелся кстати какому-то из бульдогов, грызшихся тогда под кремлевским ковром. Во всяком случае Виталий Сырокомский, в то время замглавного в У/Г, сообщил мне однажды конфиденциально, что «Тревоги Смоленщины», мой очерк, опубликованный в июле 1966 года в двух номерах газеты, очень понравился одному из членов Политбюро. И
Вот лишь те из них, что я запомнил: «Колхозное собрание», Комсомольская правда, 5 июля 1966; «Тревоги Смоленщины», Литературная газета (далее ЛГ). 23 и 26 июля, 1966; «Рационалист поднимает перчатку», ЛГ, 5 апреля 1967; «Костромской эксперимент», ЛГ, 17 декабря 1967; «Спор с председателем», ЛГ, 7 августа 1968.
будто бы даже тот пожелал со мной встретиться, чтобы обсудить проблему персонально. Никакой такой встречи, впрочем, не было. Но удивительное ощущение, что я могу писать без оглядки на цензуру, кружило мне голову.
Тем более, что еще охотнее печатали меня в Комсомолке, где собралась тогда сильная команда, проталкивавшая так называемую «звеньевую» реформу в сельском хозяйстве и в особенности замечательный эксперимент Ивана Никифоровича Худенко, с которым я долгие годы был дружен. Верховодил там Валентин Чикин (представьте себе, тот самый нынешний редактор черносотенной Советской России, которому тоже в ту пору случалось ходить в подрывниках советской власти). Комсомольская команда, надо полагать, имела собственного патрона в Политбюро, для которого страшная картина переформированной деревни тоже была козырной картой в драке за власть. «Колхозное собрание», например, мой очерк из Воронежской области, опубликованный почти одновременно с «Тревогами Смоленщины», где банкротство «социалистической демократии» описано было столь графически, что, по сути, звучало ей смертным приговором, стал на время своего рода манифестом комсомольской команды.
Как видит читатель, было от чего голове закружиться. И моё тогдашнее впечатление, что я могу всё, совпало, по-видимому, с впечатлением Чаковского. Ему я тоже, наверное, казался восходящей звездой советской журналистики, за которой стоит кто-то недосягаемо высокий и кому позволено то, что запрещено другим. (Добавлю в скобках, что точно такое же впечатление сложилось, как пришлось мне узнать позже, когда я - выдворенный из СССР - попал в Америку, и у аналитиков ЦРУ. Во всяком случае они долго и въедливо допытывались, кто именно стоял за мной в Политбюро в бо-е годы). Потому-то, я думаю, и возник тогда в голове у Чаковского план коварного спектакля, где я должен был невольно сыграть главную - и предательскую- роль.
Как это ни невероятно, ничего подобного мне тогда и в голову не приходило. И воспринял я новое задание с таким же воодушевлением, как если бы мне предложили съездить в Казахстан и еще раз рассказать, как замечательно идут дела у Худенко - на фоне кромешной тьмы в соседних совхозах-доходягах. И, по совести говоря, показалось мне новое задание еще более интересным.
Мощная трагическая фигура Соловьева давно меня занимала. Рассказать о его судьбе, о его драме и монументальном открытии, о котором, кажется, не писал еще никто - ни до меня, ни после (да и копия моей рукописи затерялась куда-то то ли в катастрофическ и спешном отъезде из России, то ли в бесконечных переездах по Америке), казалось мне необыкновенно важным. Это сейчас, когда сочинения его давно переизданы и доступны каждому, рассказ о духовной драме Соловьева никого, наверное, не удивит (впрочем, и в наши дни едва ли посвятит ему полосу популярная газета). Но в бо-е, после процесса над Синявским и Даниэлем, полоса о Соловьеве была бы событием поистине из ряда вон выходящим.
Для меня, однако, вся разница состояла, как мне тогда казалось, лишь в том, что на этот раз командировка была не в забытые богом колхозы Амурской или Пензенской области, но во вполне комфортабельную Ленинку, где и перечитывал я несколько месяцев подряд тома Соловьева.
Я не могу, конечно, точно воспроизвести здесь то, что тогда написал. И память не та, да и давно уже не пишу я так темпераментно, как в те далекие годы. Полжизни прошло с той поры все-таки. Впрочем, в книге «После Ельцина» я о Соловьеве упомянул. И написал в ней вот что: «Предложенная им формула, которую я называю «лестницей Соловьева», - открытие, я думаю, не менее замечательное для политической мысли, чем периодическая таблица Менделеева для химии. А по смелости предвидения даже более поразительное. Вот как выглядит эта формула: национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».3
Вчитайтесь и вы увидите: содержится здесь нечто и впрямь неслыханное. А именно, что в России национальное самосознание, т.е. естественный, как дыхание, патриотизм, любовь к отечеству,
А. Янов. После Ельцина. М., 1995. с. 5.
может оказаться смертельно опасным. Неосмотрительное обращение с ним неминуемо развязывает, говорит нам Соловьев, цепную реакцию вырождения, при которой культурная элита страны и сама не замечает происходящих с нею роковых метаморфоз.
Нет, Соловьев ничуть не сомневался в жизненной важности патриотизма, столь же нормального и необходимого для народа, как для человека любовь к детям или к родителям. Опасность лишь в том, что в России граница между ним и второй ступенью соловьевской лестницы, «национальным самодовольством» (или, говоря современным языком, национал-либерализмом), неочевидна, аморфна, размыта. И соскользнуть на неё легче легкого. Но стоит культурной элите страны подменить патриотизм национал-либерализмом, как дальнейшее её скольжение к национализму жесткому, совсем уж нелиберальному (даже по аналогии с крайними радикалами времен Французской революции, «бешеному») становится необратимым. И тогда «национальное самоуничтожение» неминуемо.