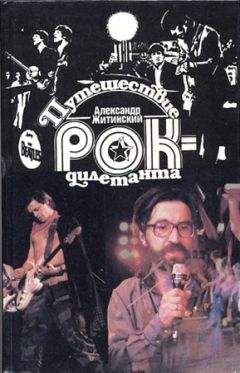Ознакомительная версия.
Потом он спустился с моста и направился к Барнскому лугу. Здесь, в кустах дрока, серых от паутины и искрящихся каплями росы, еще заплуталась ночь, Милтоун прошел мимо каких-то бродяг, которые крепко спали, всей семьей тесно прижавшись друг к другу. Даже бездомные спят друг у друга в объятиях!
Он вышел на дорогу близ ворот Рейвеншема, прошел огородом и опустился на скамью подле малинника. Малинник был обнесен сеткой для защиты от воров, но, два черных дрозда, заслышав Милтоуна, встрепенулись в кустах, нырнули сквозь нее и полетели прочь.
Неподвижную фигуру на скамье заметил издали садовник, и скоро уже все знали, что в малиннике сидит молодой лорд. Слух этот дошел и до Клифтона, и он самолично вышел посмотреть, в чем дело. Старик неслышно подошел и остановился перед Милтоуном.
– Вы будете завтракать, милорд?
– Если бабушка меня примет, Клифтон.
– Как я понимаю, ваша светлость вчера вечером выступили с речью?
– Да.
– Надеюсь, палата вам понравилась.
– Ничего, Клифтон, спасибо.
– Конечно, она уже не та, что в славные времена вашего дедушки. Он был о ней очень высокого мнения. Но, разумеется, люди теперь другие.
– Tempora mutantur[5].
– Это верно. Я замечаю, к государственным делам стало другое отношение. Взять хоть эти дешевые газетки; читать-то их, конечно, читаешь, но уж одобрить никак нельзя. Мне не терпится прочесть вашу речь. Говорят, в первый раз выступать очень трудно.
– Да, пожалуй.
– Но вам-то, конечно, волноваться не стоило. Я уверен, это была прекрасная речь.
Худые бледные щеки старика, окаймленные снежно-белыми бакенбардами, залила краска.
– Я давно ждал этого дня, – продолжал он, запинаясь. – Все годы, сколько знаю вашу светлость… двадцать восемь лет. Это начало.
– Или конец, Клифтон.
Лицо старика вытянулось, он посмотрел на Милтоуна с тревожным недоумением.
– Нет, нет, – сказал он. – В вашем роду такого быть не может.
Милтоун взял его за руку.
– Простите, Клифтон. Я не хотел вас огорчить. С минуту они молчали, в некоторой растерянности глядя на свои соединенные в пожатии руки.
– Не угодно ли вашей светлости принять ванну?.. Завтрак, как всегда, в восемь. Могу достать для вас бритву.
Войдя в столовую, Милтоун застал леди Кастерли с «Таймсом» в руках; перед нею стоял ее обычный завтрак – грейпфрут и сухое печенье. Она казалась совсем не такой «устрашающе здоровой», как писала Барбара; скорее, даже побледнела, словно тяжело переносила летнюю жару. Но ее небольшие серо-стальные глаза, как всегда, смотрели зорко и живо, и каждое движение было полно решимости.
– Я вижу, Юстас, ты выбрал собственное направление, – сказала она. – Я не нахожу в этом ничего дурного, напротив. Но помни, мой милый, что бы у тебя там ни переменилось, держись одного. В парламенте важно все время бить в одну точку. Ты что-то плохо выглядишь.
– Спасибо, я здоров, – пробормотал Милтоун, наклоняясь и целуя ее.
– Чепуха. За тобой плохо смотрят. Мама была в палате?
– Кажется, нет.
– Вот именно. А Барбара о чем думает? Уж она-то могла бы о тебе позаботиться.
– Барбара уехала к дяде Деннису.
Леди Кастерли поджала губы; потому пронизывая внука взглядом, сказала:
– Сегодня же отвезу тебя туда. Морской воздух тебе пойдет на пользу. Что вы на это скажете, Клифтон?
– Его светлость очень бледен.
– Распорядитесь насчет экипажа, мы поедем с Клэпхемского вокзала. Томас доставит тебе что нужно из платья. А лучше позвоним по телефону твоей маме, пусть пришлет за нами автомобиль, хоть я их терпеть не могу. Слишком жарко ехать поездом. Клифтон, пожалуйста, устройте это.
Милтоун не стал спорить. И всю дорогу сидел глубоко равнодушный и усталый, что леди Кастерли сочла в высшей степени дурным знаком, ибо усталость она почитала состоянием весьма странным и непростительным. Этой примечательной маленькой женщине – хранительнице аристократических принципов, – заряженной стремлением сохранить жизнеспособность, свойственна была особая, выработанная поколениями цепкость, которую вынуждено развивать в себе сословие, стоящее на вершине общественной лестницы, затем, чтобы не впасть в ничтожество и не оказаться перед необходимостью начинать все сначала. Говоря начистоту, ей не терпелось любым, самым жестоким способом как-то встряхнуть внука, вывести из оцепенения, ибо она знала, почему он такой, и считала это возмутительным малодушием. Будь на его месте любой другой из ее внуков, она не колебалась бы ни минуты, но в Милтоуне было нечто такое, чего побаивалась даже леди Кастерли, и за четыре часа, проведенные в дороге, она только раз попыталась преодолеть его сдержанность. Сделала она это с необычайной для нее мягкостью – ведь он, как никто другой, был ее надеждой и ее гордостью! Просунув под его локоть сухую властную ручку, она тихо сказала:
– Не грусти, мой милый. Это никуда не годятся.
Но Милтоун мягко высвободился и положил ее руку на плед, прикрывавший колени; он ни слова не ответил и ничем не показал, что слышал ее.
И леди Кастерли, глубоко уязвленная, сжала в ниточку поблекшие губы и сказала резко:
– Пожалуйста, медленнее, Фрис!
Только Барбаре Милтоун немного приоткрыл свою смятенную душу; это произошло в тот же день, в час отлива, когда они лежали на берегу в тени лохматого тамариска. Он и с нею не мог бы заговорить откровенно, если бы не та памятная ночь в Монкленде; и, может быть, все равно не заговорил бы, если бы не чувствовал в младшей сестре того живого тепла, которого он так жаждал. В том, что касалось любви, из них двоих старшей была Барбара: помимо присущего почти всем женщинам чутья, ей свойственно было еще врожденное знание света, как и подобало дочери лорда и леди Вэллис. Если она не очень ясно понимала, что творится в ее собственной душе, то сбивали ее с толку не любовь и страсть, как Милтоуна, а разум и любопытство, разбуженные Куртье и пытающиеся неумело трепыхать крылышками. Она горевала о безнадежной любви Милтоуна; и ей тяжело было думать о миссис Ноуэл, которая терзается тоской в своем одиноком домике. Глядя на свою примерную и степенную сестру Агату, Барбара уже давно была склонна бунтовать против общепринятой морали и отнюдь не склонна к набожности. Раз эти двое не могут быть счастливы врозь, рассуждала она, так во имя всего счастья, какое возможно на земле, пусть будут счастливы вдвоем!
Милтоун лежал на спине под кустами тамариска и смотрел в небо, а она гадала, как бы его утешить, сознавая, что не понимает его взглядов и мыслей. Позади, над полями, жаворонки песней славили зреющие хлеба; берег, обнаженный отливом, пестрел всеми красками, от ярко-зеленого до нежно-розового; у самой воды бродили черные согнутые фигурки – сборщики морского салата. В тени ветвей сладко пахло тамариском; во всем был несказанный покой. И Барбара, окутанная пестрым покрывалом света и тени, не могла без досады думать о страданиях, которые, по ее мнению, вполне можно было исцелить, – надо только действовать. Наконец она набралась храбрости:
– Жизнь коротка, Юсти!
Милтоун не пошевельнулся, но слова его ее испугали:
– Убеди меня в этом, Бэбс, и я стану тебя благословлять. Если пенье жаворонков ничего не значит и эта лазурь над головой – глупая выдумка, если мы пресмыкаемся тут впустую и жизнь наша бессмысленна и бесцельна, ради всего святого убеди меня в этом!
Барбара растерянно подняла руку, словно защищаясь.
– Не надо так! – вымолвила она. – Ты слишком мрачно на все смотришь!
– Раз ты говоришь, что жизнь коротка, тебе не следует отравлять ее жалостью, – сказал Милтоун со своей обычной улыбкой. – В старину мы шли в Тауэр за свои убеждения. Полагаю, что и сейчас мы способны потерпеть, когда нам достается; или уж нам больше ни на что не хватает пороху?
– Что действительно надо терпеть, мы вытерпим, я полагаю, – резко ответила Барбара, обиженная его насмешливым тоном, – но с какой стати самим себя мучить? Вот чего я не выношу!
– Ох, как мудро.
Барбара густо покраснела.
– Я люблю жизнь! – сказала она.
Золотые корабли заходящего солнца уже плыли на всех парусах прямо к берегу, где все еще низко сгибались черные фигурки сборщиков салата, а жаворонки еще пели над зреющими хлебами, когда Харбинджер, скакавший по берегу из Уайтуотера к дому лорда Денниса, повстречал брата и сестру, молча возвращавшихся домой обедать.
Сказать, что сей молодой человек тонко чувствовал духовную температуру, значило бы погрешить против истины; но он в этом был не так уж виноват: ведь с самого его рождения все словно сговорилось поддерживать уровень ртути в духовном термометре окружающей его среды на тридцати градусах в тени. И если сейчас столбик ртути его собственного духа подскочил чуть ли не до точки кипения и грозил разорвать стеклянную оболочку, от этого он только еще меньше чем всегда способен был замечать, что творится с другими. Однако он заметил, что Барбара бледна и кажется еще прелестнее, чем обычно. С ее старшим братом Харбинджеру почему-то всегда бывало не по себе. Он не решался попросту презирать не знающее компромиссов упорство в человеке своего круга, но и его, как всех, болезненно задевало плохо скрытое язвительное презрение Милтоуна ко всякой банальности; непоколебимо уверенный в себе, как это свойственно крепким, здоровым людям, чей счастливый жребий таков, что едва ли чему-нибудь удастся поколебать эту веру, он терпеть не мог, когда на него смотрели несколько сверху вниз. И испытал величайшее облегчение, когда Милтоун, сказав, что ему понадобился какой-то журнал, свернул к городку.
Ознакомительная версия.