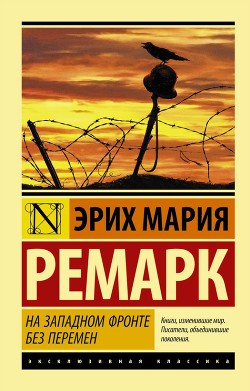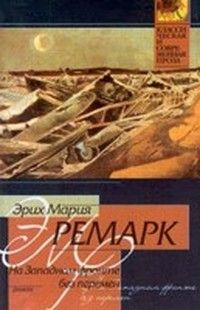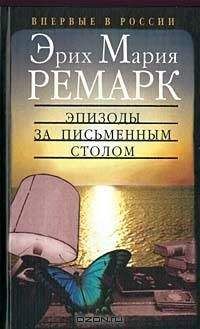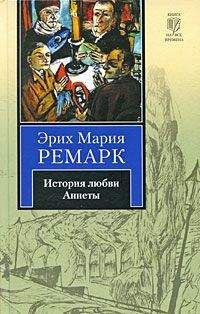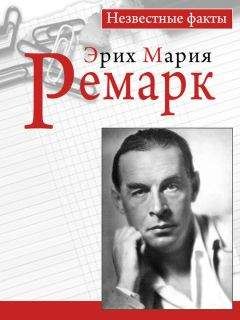Наконец мы добираемся до небольшого блиндажа. Кропп плюхается на пол, и я перевязываю его. Пуля вошла над самым коленом. Затем я осматриваю самого себя. На штанах у меня кровь, на руке — тоже. Альберт накладывает на входные отверстия бинты из своих пакетиков. Он уже не может двигать ногой, и мы оба удивляемся, как это нас вообще хватило на то, чтобы притащиться сюда. Это все, конечно, только со страху, — даже если бы нам оторвало ступни, мы все равно убежали бы оттуда. Хоть на культяпках, а убежали бы.
Я еще кой-как могу ползать и подзываю проезжающую мимо повозку, которая забирает нас. В ней полно раненых. Их сопровождает санитар, он загоняет нам в грудь шприц, — это противостолбнячная прививка.
В полевом лазарете нам удается добиться, чтобы нас положили вместе. Нам дают жиденький бульон, который мы съедаем с презрением, хотя и жадно, — мы видали лучшие времена, но сейчас нам все-таки хочется есть.
— Значит, верно, по домам, Альберт? — спрашиваю я.
— Будем надеяться, — отвечает он. — Если б только знать, что со мной такое.
Боль становится сильнее. Под повязкой все горит огнем. Мы без конца пьем воду, кружку за кружкой.
— Где у меня рана? Намного выше колена? — спрашивает Кропп.
— По меньшей мере на десять сантиметров, Альберт, — отвечаю я.
На самом деле там, наверно, сантиметра три.
— Вот что я решил, — говорит он через некоторое время, — если они мне отнимут ногу, я поставлю точку. Не желаю ковылять по свету на костылях.
Так мы лежим наедине со своими мыслями и ждем.
Вечером нас несут в «разделочную». Мне становится страшно, и я быстро соображаю, что мне делать, — ведь всем известно, что в полевых лазаретах врачи не задумываясь ампутируют руки и ноги. Сейчас, когда лазареты так забиты, это проще, чем кропотливо сшивать человека из кусочков. Мне вспоминается Кеммерих. Ни за что не дам себя хлороформировать, даже если мне придется проломить кому-нибудь голову.
Пока что все идет хорошо. Врач ковыряется в ране, так что у меня в глазах темнеет.
— Нечего притворяться, — бранится он, продолжая кромсать меня.
Инструменты сверкают в ярком свете, как зубы кровожадного зверя. Боль невыносимая. Два санитара крепко держат меня за руки: одну мне удается высвободить, и я уже собираюсь съездить врачу по очкам, но он вовремя замечает это и отскакивает.
— Дайте этому типу наркоз! — в бешенстве кричит он.
Я сразу же становлюсь смирным.
— Извините, господин доктор, я буду вести себя тихо, но только не усыпляйте меня.
— То-то же, — скрипит он и снова берется за свои инструменты.
Это блондинчик со шрамами от дуэлей и с противными золотыми очками на носу. Лет ему от силы тридцать. Я вижу, что теперь он нарочно мучает меня, — он так и роется в моей ране, время от времени искоса поглядывая на меня из-под своих очков. Я вцепился в поручни, — пусть я лучше сдохну, но он не услышит от меня ни звука.
Врач выуживает осколок и показывает его мне. Как видно, он доволен моим поведением: он тщательно накладывает мне лубок и говорит:
— Завтра на поезд, и домой! Затем мне делают гипсовую повязку. Увидевшись в палате с Кроппом, я рассказываю ему, что санитарный поезд придет, по всей вероятности, уже завтра.
— Нам надо потолковать с фельдшером, чтобы нас оставили вместе, Альберт.
Мне удается вручить фельдшеру две сигары с наклейками из моего запаса и ввернуть при этом несколько слов. Он обнюхивает сигары и спрашивает:
— У тебя что, еще есть?
— Добрая пригоршня, — говорю я. — И у моего товарища, — я показываю на Кроппа, — тоже найдется. Завтра мы вместе с удовольствием передадим их вам из окна санитарного поезда.
Он, конечно, сразу же смекает, в чем дело: понюхав еще раз, он говорит:
— Ладно.
Ночью мы ни на минуту не можем уснуть. В нашей палате умирает семь человек. Один из них целый час распевает высоким сдавленным тенором хоралы, затем пение переходит в предсмертный хрип. Другой слезает с кровати и успевает доползти до подоконника. Он лежит под окном, словно собравшись в последний раз выглянуть на улицу.
Наши носилки стоят на вокзале. Мы ждем поезда. Идет дождь, а на вокзале нет крыши. Одеяла тоненькие. Мы ждем уже два часа.
Фельдшер ухаживает за нами, как заботливая мамаша. Хотя я чувствую себя очень плохо, я не забываю о нашем плане. Будто невзначай я откидываю одеяло, чтобы фельдшер увидел пачки с сигарами, и даю ему одну в виде задатка. За это он укрывает нас плащпалаткой.
— Эх, Альберт, дружище, — вспоминаю я, — а помнишь нашу кровать с балдахином и кошку?
— И кресла, — добавляет он.
Да, кресла из красного плюша. По вечерам мы восседали на них как короли и уже собирались выдавать их напрокат. По сигарете за час. Мы жили бы себе забот не зная, да еще имели бы выгоду.
— Альберт, — вспоминаю я, — а наши мешки со жратвой…
Нам становится грустно. Все это нам очень пригодилось бы. Если бы поезд отходил днем позже. Кат наверняка разыскал бы нас и принес бы нам нашу долю.
Вот ведь невезение. В желудке у нас похлебка из муки — скудные лазаретные харчи, — а в наших мешках лежат свиные консервы. Но мы уже настолько ослабели, что не в состоянии волноваться по этому поводу.
Поезд прибывает лишь утром, и к этому времени в носилках хлюпает вода. Фельдшер устраивает нас в один вагон. Повсюду снуют сестры милосердия из Красного Креста. Кроппа укладывают внизу. Меня приподнимают, мне отведено место над ним.
— Ну обождите же, — вдруг вырывается у меня.
— В чем дело? — спрашивает сестра.
Я еще раз бросаю взгляд на постель. Она застлана белоснежными полотняными простынями, непостижимо чистыми, на них даже видны складки от утюга. А я шесть недель не менял рубашки, она у меня черная от грязи.
— Вы не можете влезть сами? — озабоченно спрашивает сестра.
— Залезть-то я залезу, — говорю я, чувствуя, что взопрел, — только снимите сначала белье.
— Зачем же? Мне кажется, что я грязен как свинья. Неужели меня положат сюда?
— Да ведь я… — Я не решаюсь закончить свою мысль.
— Вы его немножко измажете? — спрашивает она, стараясь приободрить меня. — Это не беда, мы его потом постираем.
— Нет, не в этом дело, — говорю я в волнении.
Я совсем не готов к столь внезапному возвращению в лоно цивилизации.
— Вы лежали в окопах, так неужели же мы для вас простыни не постираем? — продолжает она.
Я смотрю на нее; она молода и выглядит такой же свежей, хрустящей, чистенько вымытой и приятной, как и все вокруг, трудно поверить, что это предназначено не только для офицеров, от этого становится не по себе и даже как-то страшновато.
И все-таки эта женщина — сущий палач: она заставляет меня говорить.
— Я только думал… — На этом я умолкаю: должна же она понять, что я имею в виду.
— Что еще такое?
— Да я насчет вшей, — выпаливаю я наконец.
Она смеется:
— Надо же и им когда-нибудь пожить в свое удовольствие.
Ну что ж, теперь мне все равно. Я карабкаюсь на полку и укрываюсь с головой.
Чьи-то пальцы шарят по одеялу. Это фельдшер. Получив сигары, он уходит.
Через час мы замечаем, что мы уже едем.
Ночью я просыпаюсь. Кропп тоже ворочается. Поезд тихо катится по рельсам. Все это еще как-то непонятно: постель, поезд, домой. Я шепчу:
— Альберт!
— Что?
— Ты не знаешь, где тут уборная?
— По-моему, вон за той дверью направо.
— Сейчас посмотрим.
В вагоне темно, я нащупываю край полки и собираюсь осторожно соскользнуть вниз. Но моя нога не находит точки опоры, я начинаю сползать с полки, — на раненую ногу не обопрешься, и я с треском лечу на пол.
— Черт побери! — говорю я.
— Ты ушибся? — спрашивает Кропп.
— А ты что, не слыхал, что ли? — огрызаюсь я. — Так треснулся головой, что…
Тут в конце вагона открывается дверь. Сестра подходит с фонарем в руках и видит меня.
— Он упал с полки… Она щупает мне пульс и притрагивается к моему лбу.