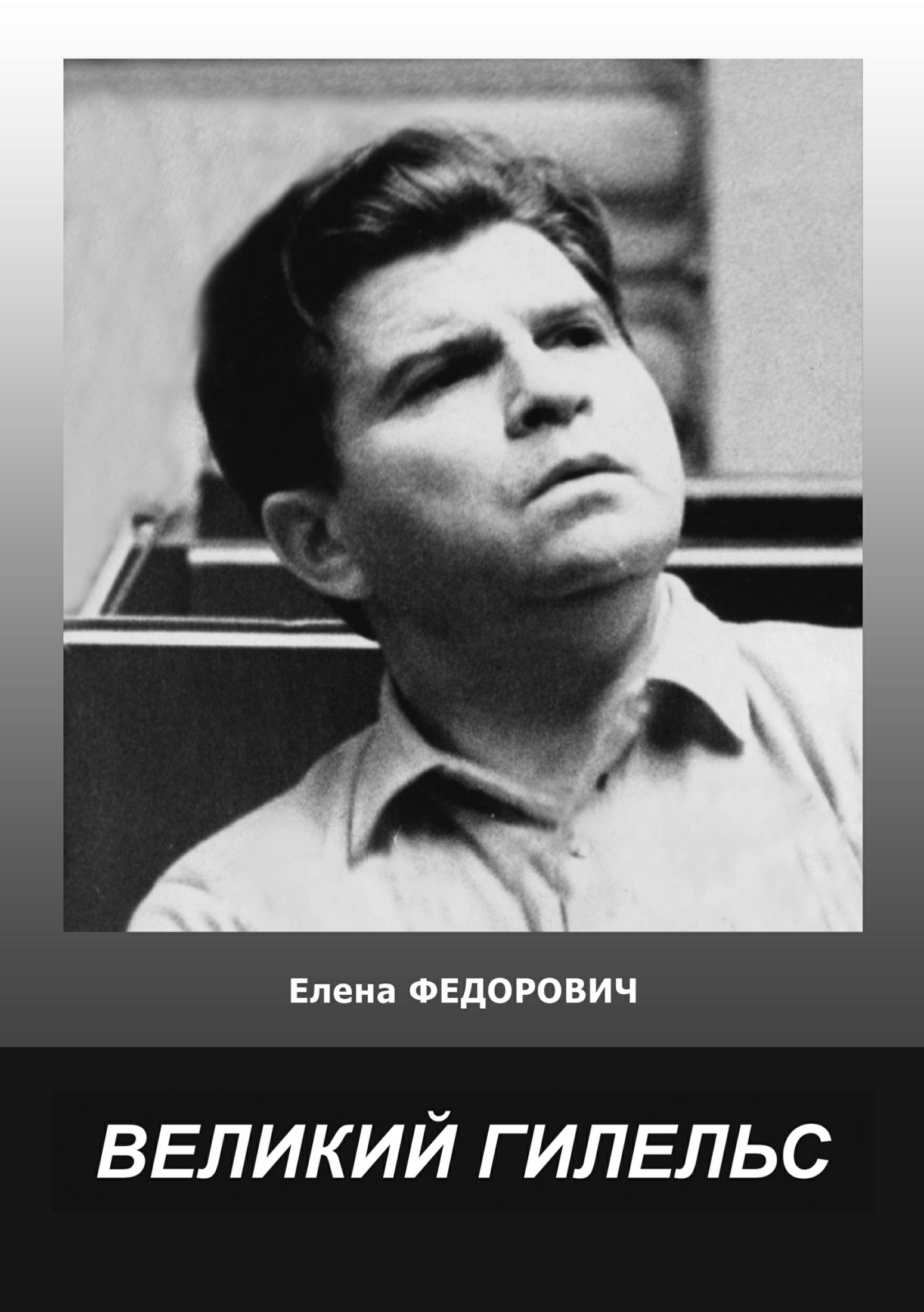правительственных мероприятиях), не занимался политикой. В последний период, видимо, предчувствуя, что ему не так много осталось жизни, отказался от всего, что уводило его от прямого дела, – ушел из жюри конкурсов, из консерватории. Спешил сделать то, что мог только он.
Это тоже выглядит немодным в постсоветский период; фигура Гилельса представляется сейчас молодежи как лишенная политического протеста, покорная. Но при этом забывают, что Гилельс умер, когда только подул первый свежий ветерок, эпоха была совсем другая; а в советские времена протестом было как раз молчание, неучастие. Много ли музыкантов открыто заявляли протест, когда это было опасно? Только Ростропович с Вишневской. У всех остальных смелость появилась только, когда это стало совершенно безопасным, – а Гилельса в это время уже не было. Об этом тоже не пишут, и меряют его поведение в иную эпоху сегодняшними мерками. Ну и, к тому же, его мужественнейший поступок по вызволению Нейгауза был не просто «забыт» теми, кому надлежало бы это очень хорошо помнить, но и чрезвычайно умело закамуфлирован, чтобы и потомком трудно было докопаться до правды. Уверена, что подобный поступок был у него не единичен.
Гилельс умер, не дожив даже до шестидесяти девяти. Нет сомнений, что, проживи хоть немного дольше он сам, и проживи дольше Баренбойм, семидесятилетие великого пианиста отмечалось бы более достойно, чем шестидесятилетие, когда ему дали звание Героя социалистического труда, которое ему было не нужно, и нанесли много обид в прессе. Но злой рок оборвал его жизнь и не дал закончить лучшую книгу о нем.
После смерти Гилельса в среде музыкантов ходили упорные слухи, что он скончался в результате врачебной ошибки. Эти слухи потом прямо повторил С.Т. Рихтер: «Тем не менее, обстоятельства его смерти ужасны. Перед очередным турне он пошел в поликлинику – обычная поверка состояния здоровья. Ему сделали укол, и через три минуты он умер. Это случилось в Кремлевской больнице. Всем известно, что врачи брались туда по признаку политической благонадежности. Из-за некомпетентности ему сделали не тот укол и убили его» 216.
Не думаю, что такое было возможным. Известно, что в последний период он чувствовал себя плохо и находился в больнице. Мне кажется, что ближе к истине была С. Хентова, завершившая статью «Эмиль Гилельс знакомый и незнакомый» такими словами: «Он умер 69-ти лет. Он должен был жить дольше. Говорят, его смерть была результатом недосмотра кремлевских врачей. Я думаю, что его медленно убивала сама наша жизнь, одной из жертв которой стал этот счастливец».
Но и это не вся правда. С. Хентова, как обычно, намекает на его близость к власти – а власть, оказывается, была «плохая» и даже его, «счастливца» при ней, погубила.
На самом деле, видимо, его убила не только и не столько «наша жизнь». Его убил сложившийся ко второй половине его жизни какой-то почти фантастический симбиоз тоталитарной власти и постоянно интригующих специфических музыкальных кругов. Думаю, слухи о «врачебной ошибке» распускали те, кто хорошо знал, что сокращало его жизнь на самом деле. Странно, почему ни разу не высказались врачи? Обвинение им, которое сейчас повторяется уже и в печати, – серьезное.
Мужественный, волевой и гордый, он почти никогда не показывал, как его, тончайшего и ранимого на самом деле, мучила несправедливость; как омерзительны были ему, при его кристальной порядочности, те наплывы грязной пены, которые клубятся около искусства.
«Музыка молчала, когда смеркалось от забот повседневности. Проступала на поверхность усталость. Болью переполнялось сердце». Это слова самого Гилельса, фрагмент его статьи памяти Флиера. И пишет это он вроде бы о Флиере. Но, подобно тому, как исполнитель всегда играет и композитора, и самого себя, эти слова Гилельса – и о самом себе тоже. Такого просто нельзя придумать, не переживая это самому.
И он ушел. Ушел, не дожив чуть-чуть до того времени, когда хотя бы обвинения его в «советскости» сошли бы на нет, потому что в его искусстве никогда не было ничего советского, и это, наконец, поняли бы, продолжай оно звучать и в конце восьмидесятых, и далее.
В результате, в том числе и такого «своевременного» ухода, Гилельс оказался настолько удобной мишенью для того, чтобы изъять его с пианистического Олимпа, что сейчас в представлении многих он является неким олицетворением официального советского искусства, и только. Подразумевают, что его исполнение «неинтересно». Изымают его имя со страниц истории.
Начинали эту кампанию люди, понимавшие, что они делают, которым был неудобен честный, гордый, «нормальный» гений, своим божественным талантом мешавший обожествлять других. Продолжают, занимая воинствующую или просто равнодушную позицию, скорее всего, те, кто с искусством Гилельса уже плохо знаком.
В восприятии любого искусства (а исполнительского, наверное, особенно) очень многое субъективно. Если людям много раз сказать, что вот это гениально, а это – так себе, то большинство вскоре уверенно будет это повторять, причем искренне. Они станут на самом деле слышать именно так. Беда ведь еще в том, что по-настоящему разбираются в содержательных категориях исполнительского искусства очень немногие из имеющих музыкальное образование. Остальные, потеряв непосредственность дилетанта, не приобретают взамен истинного понимания профессионала, и они тем скорее присоединятся к авторитетному «мнению», чем больше их внутренняя неуверенность в собственной компетентности. Скорее – как все, повторять за всеми, не оказаться на обочине мнений! По крайней мере, по прочтении периодики об академической музыке и большей части изданий публицистического характера, посвященных музыкантам, складывается впечатление, что это основной посыл. И вот повторяются одни и те же имена, бесконечно, а то, что оказалось за пределами данного круга, – это все «примитив», «неинтересно», «бездуховно».
Вспомним, что писал Баренбойм о Гилельсе еще в середине восьмидесятых: «Всесветная почетная известность пришла к нему не потому, что была навязана и закреплена частыми повторами его имени, невольно воздействующими на людское сознание (курсив мой. – Е.Ф.). Нет, эта слава рождена самим существом (курсив Л.А. Баренбойма. – Е.Ф.) его искусства…» 217.
В этих словах, как и в приведенных ранее словах Шостаковича о Гилельсе, дается отрицательная аргументация. У Шостаковича не говорится о Гилельсе только «искусство такое-то» (благородно-простое, естественное), а говорится – в «искусстве нет того-то» (аффектации, позы, жеманства). У Баренбойма не говорится – «его слава была рождена теми-то хорошими вещами»; но пришла «не потому, что…». Такая аргументация выдает мысли пишущего, остающиеся за кадром: слишком страдал Шостакович (как и Гилельс) от того, что толпа невежественных критиков предпочитает позу и жеманство, отрицая подлинное; слишком часто видел Баренбойм, как навязывают и закрепляют частыми повторами, воздействуя на сознание, угодные кому-либо имена, не замечая того имени, в котором