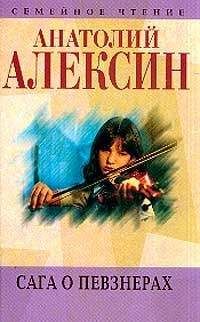Ознакомительная версия.
Но еще более страшная судьба была уготована маме. Даша поступила опрометчиво, хотя это от нее почти не зависело. Никто там, на сцене, не шепнул ей: «Прекрати репетировать: ты убиваешь маму!» Увы, причины и следствия вообще не различают, не видят друг друга.
– Поклянитесь, что Даша… Поклянитесь! Я вас умоляю…
Ситуация нарушила все законы и традиции Стены плача, привыкшей к молитвам или молчаливым страданиям. Камни вобрали в себя столько человеческих бед, надежд и к небесам вознесенных молений, что стали напоминать прижавшиеся друг к другу могучие лбы, которые погрузились в бездонную, неразрешимую думу о дорогах людских. Но даже они, ко всему привыкшие, казалось, стали в те минуты еще выпуклей от внимания, а может, сочувствия.
– Поклянитесь…
– Клясться нехорошо, – чуть слышно ответил Абрам Абрамович. – Не положено клясться…
– Один раз в жизни… Ради меня… поступите нехорошо! Я прошу… Я очень прошу!
«Я прошу!» Сколько раз за последнее время произносили мы эти слова вслух, а еще чаще мысленно. И всегда «прошу» звучало, как «умоляю», как «заклинаю».
– Поклянитесь!
– Клянусь, – проговорил за нас всех Абрам Абрамович.
– Чем?
– Своей собственной честью.
– Нет… докажите мне… – Мама теряла не только власть над собой, но и сознание.
И все же ей нужно было немедленно, не ожидая доказательств, за что-то уцепиться. И она поверила клятве. Даже извинилась:
– Простите.
Иерусалим, не вознесшийся гордо, не воспаривший, а с чувством достоинства поднявшийся над долинами и холмами минувших кровопролитий, чьих-то временных побед и временных поражений, что поначалу кажутся вечными; Иерусалим, величественно простершийся над историческими пропастями и взгорьями, он, Иерусалим, не утратил доброй способности вглядываться и в каждое лицо человеческое. Однако он, чудилось мне, нарочно прикрылся ранними сумерками, чтобы не заглядывать в мамины глаза, успокоенные доверием к чести и клятве Абрама Абрамовича. Пусть верит…
– И как же вы все-таки ей докажете? Ведь в конце концов она потребует этого, – сказал я, поотстав от остальных членов семьи, понуро изучавших отшлифованные веками и тысячелетиями твердыни под своими ногами. В Иерусалиме непрерывно – то глазами, то плечами, то ногами – задеваешь тысячелетия. – Как вы сумеете доказать?
– Еще не знаю.
– Да-а, нелегка ложь во спасение.
– Надо будет завтра… непременно надо будет как-то ее отвлечь.
«Есть такой анекдот»… Эти слова не смели уже звучать в нашем доме. Юмор, в спасительную силу которого я всегда верил, оказался бессильным. И даже кощунственным. Он не мог более развлечь и отвлечь. Но Земля Обетованная способна была не только «отвлекать» от всего, кроме себя самой, но одновременно и магически к себе привлекать. В ней не было ничего окостеневшего от времени, застывшего в музейной почтительности, но все вокруг выглядело «историческим чудом». И все хотелось назвать не достопримечательным, а «достозамечательным», если бы существовало подобное слово.
Абрам Абрамович не переставал завораживать маму святынями Святой Земли. Мы неустанно открывали для себя и мамы обетованность того, что простиралось вблизи и вдали.
Чтобы исчерпать эти открытия и завершить наши автобусные маршруты, целой жизни бы не хватило. Поэтому на следующий день мы снова отправились в путешествие по городу городов и его окрестностям…
Псалом 137-й гласит: «Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни, язык мой, к гортани моей, если не буду помнить тебя…»
– Но чтобы запомнить, надо видеть и видеть! – провозгласил в экскурсионном автобусе Анекдот, переставший доверять философской целительности анекдотов.
– Удивительно… но всякий раз мне чудится, что я вижу этот город впервые, – отрешенно произнесла мама.
– Как лицо прекрасного человека, в котором всегда обнаруживаются новые покоряющие черты! – с воодушевлением поддержал Абрам Абрамович. И взглянул полуукрадкой на лицо мамы.
Мне же отправиться в то путешествие не довелось: за полчаса до отъезда меня срочно вызвали к пациенту.
Мама обнимала и притягивала к себе Игоря: меня она имела возможность обнимать и притягивать каждый день.
Отец удалился на заднее сиденье и, сгорбившись, привычно опершись на палку, думал о дочери. Наверное, это было так: ни о ком и ни о чем ином он думать уже не мог. Несчастья, я понял, иногда обладают мощью непреодолимой: им на милость, а точней, на расправу сдаются и стойкость, и героизм.
Автобус в очередной раз затормозил возле старинных домов, которые гид-репатриантка упрямо и раздражающе именовала «экспонатами». Шофер широко распахнул двери, как распахивают гостеприимные объятия. Гид-репатриантка не упускала ни единой возможности доказать: хотя я здесь недавно, мне столь досконально уже все известно, будто я появилась на свет именно тут. Самоутверждение было для нее дороже других «утверждений». А легендарный город был, похоже, лишь поводом «доказать»… Экскурсию она вела «индивидуально», по-своему. «Так ей казалось», – сообщил мне потом, через много времени, Игорь, припоминая все детали того путешествия.
– Ничего нельзя пропустить! – восклицала она, не понимая, что, стремясь не упустить ничего, обычно упускают самое главное.
Она требовала распахивать двери чересчур часто. Шофер по должности обязан был подчиняться. Он, непритворно деликатный, предупредительный, и на этот раз распахнув, поспешил на помощь экскурсантам: протянуть руку, вовремя подхватить…
Два смуглых человека, возникнув будто из-под земли, оказались за его заботливо пригнувшейся спиной. Оба были вызывающе невозмутимы и вызывающе молоды. Не позволив никому ничего сообразить, они, один за другим, произвели какие-то броски руками, как это бывает в спорте или игре. Бутылки полетели через спину шофера внутрь автобуса. Вдребезги, как от взрывной волны, разлетелось бутылочное стекло, освободив путь жидкости, не умевшей тушить и спасать, но созданной, чтобы воспламенять, поджигать, умерщвлять. Автобус заполнился дымом, огнем. И криком…
Абрам Абрамович вскочил и бросился за теми двоими. Но отец волевым рывком остановил его:
– Надо вырвать отсюда! Каждого… Каждого!..
Он, сумев – непонятно как! – с прежней стремительностью покинуть свое дальнее место, вроде бы выпрямился, возродился для отваги, всегда требующей быть впереди.
Случайности, совпадения…
Может, Господь пожелал избавить всех нас от мучительной необходимости лгать (пусть во спасение – все равно!), хитрить, изворачиваться? Может, захотел подарить нашей семье облегчение? А маму спасти от узнавания немыслимого?
Нет, грех обращаться за аргументами к Богу!
Бутылки с горючей смесью в «автобус смерти» швырнул фанатизм, для которого безразлично, кто и что взорвется, прекратит дышать, двигаться: дети, или их матери, или старики. Горючая смесь… Горючие слезы…
Мы пытались скрыться от злобы, политики. Но они вновь настигли нашу семью.
* * *
Быть может, придут времена, когда разные убеждения, так часто хватающиеся за оружие, смогут взглянуть друг другу в глаза без слепящего зверства непримиримости, а, напротив, с добротой примирения и Небесами ниспосланным желанием понять и простить? Дай Бог, чтобы так случилось! Но и это не защитит уже нашу семью…
Дай Бог, чтобы когда-нибудь политика спасала и уводила от края пропасти, а не подталкивала людей к тому краю…
Я думаю об этом сейчас, пересекая вслепую, наизусть, не глядя перед собой, улицы, площади, переулки. А тогда… До размышлений ли было?
* * *
В больницу доставили всех. Хотя многие отделались легкими травмами, несмертельными ожогами, шоком или просто испугом.
Но те, что уютно устроились в глубине автобуса, оказались в состоянии тяжком.
Меня разыскали у пациента.
– Она обречена, – сказал нам врач с тем неестественным, деланным спокойствием, с каким объявляют несправедливый, но и неотвратимый приговор. – Осколок бутылки угодил… прямо в висок. Словно кто целился…
Это был приговор нашей маме.
Отец, не заметив больничного дивана и кресел, опустился прямо на пол.
– Нет! Нет! Нет!.. – закричал Игорь. И вцепился мне в плечо, чтобы не рухнуть.
А я?.. Не помню, что было со мной. И только Абрам Абрамович как стоял, так и стоял, будто ничего не случилось.
Осмыслить то, что стряслось, я не мог.
Жили люди, любили друг друга… Кому это помешало? И как нам, оставшимся, существовать дальше? Я бы предпочел тоже оказаться в комфортабельном «автобусе смерти». Может, мне бы удалось заслонить маму собой? Террористы… Разве мы причинили им зло?..
И кто вообще имеет право убить человека? Кто имеет право убить человека? Кто имеет право убить человека?! Кажется, я, психиатр, сходил с ума.
Ознакомительная версия.