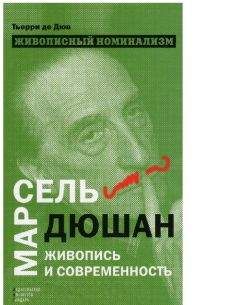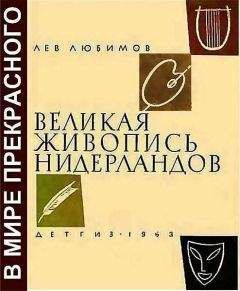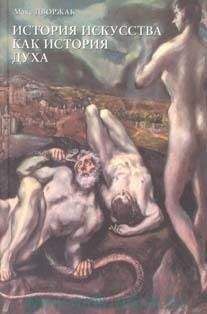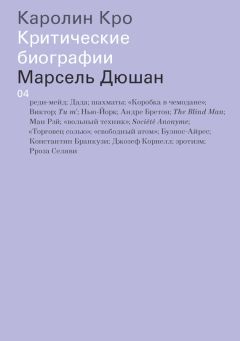И возвращают нас — после отступления — к той точке, где мы расстались с Кандинским: чистый цвет — это имя, или, точнее, фундаментальная сопряженность ощущения и имени. Это цвет, который в прямом смысле слова заслуживает своего имени, то есть относится к своим соседям и антиподам в хроматическом круге так же, как его имя относится к их именам в системе языка. Шеврёль сам логически пришел к этому убеждению, продолжив свою первую диссертацию о «законе симультанного контраста» второй, названной им так: «Изложение способа определения и наименования цветов согласно точному экспериментальному методу»58.
Понятно, что Шеврёль —кто угодно, только не номиналист, в отличие от Дюшана, чей номинализм стоит подчеркнуть и в отношении проблемы чистого цвета вкупе с той сложной традицией, которую она породила. Шеврёль —не номиналист, поскольку ему не приходит в голову замыкать имя на имя, чтобы оно в конечном итоге не означало ничего кроме того, что оно имя. Но в то же время он и не символист. Дорогая Гёте и подхваченная Кандинским идея о том, что цвет может быть «непосредственно связан с духовными переживаниями», причем даже «безотносительно к природе или форме предмета»59, Шеврёлю чужда. Он ограничивается тем, что предоставляет живописцам механику перцептивной работы цвета. С точки зрения эстетики он не может, следуя представлени--ям своей эпохи, вообразить себе, чтобы цвет служил чему-либо помимо «верной передачи модели». Однако возвратное историческое прочтение его теории спустя годы после ее позитивистского приема осуществляет прощание с моделью и отказ от подражания во имя чистого цвета. Последний уже не является выразительным символом, как в воспоминании Кандинского, где он вылезает из тюбика исполненным эмоциональной силы и со всеми своими символическими коннотациями. Понятие чистого цвета —это историческая версия основополагающей метафоры, оправдывающей переход к абстракции. Но его бытие ничем не обязано символистской по сути идее естественного соответствия цвета движениям души. Бытие чистого цвета по Шеврёлю —это оппозициональ-ное бытие знака по Соссюру. Для концептуального определения одного чистого цвета нужна как минимум пара дополнительных: красный требует голубого, а зеленый —пурпурного, точно так же как тот или иной сектор хроматического круга требует противоположного ему. Таково свойство системы, «требование структуры»60.
Благодаря Шеврёлю или, точнее, второму обращению к нему, чистый цвет предоставляет «подступ к символическому». Что, конечно, не означает, будто он может рассматриваться с этого момента как элементарный знак нового живописного языка. Его бытие основано на оппозиции, так же как бытие знака по Соссюру. Это не реальный факт, а эпистемологическое условие, которое создало историческую возможность изобретения самостоятельного живописного языка. Абстрактная живопись, и в том числе живопись Купки, вскоре пустит его в свободное употребление. Преодолев символическую стадию решения о своей законности, она всецело раскроется в пределах воображаемого и —у Купки это очевидно-быстро потеряет свою историческую значимость.
Но, как бы то ни было, неотъемлемым смыслом перехода к абстракции был для Купки и многих других «подступ к символическому»; эти переход и подступ прослеживаются в группе произведений, обозначающих точку теоретического взаимодействия; и эти произведения, создававшиеся, можно сказать, у Дюшана под носом, в соседней с его братьями мастерской, следуют в 1911-1912 годах хронологии, строго параллельной его собственному пути через кубизм.
Мне интересны не влияния, которые могли иметь место между Купкой и Дюшаном, и не их возможные общие черты. Мне интересен даже не биографический вопрос о том, сколь длительным, регулярным и глубоким могло быть общение двух живописцев. Хорошо известно, что Купка был циклотимиком и частые, особенно в 1912 году, депрессии заставляли его избегать встреч с другими художниками. Но он жил по соседству с Жаком Вийоном и, по крайней мере, от случая к случаю наверняка участвовал в собраниях группы Пюто. Что же касается Дюшана, опять-таки известно, что он не стремился к общению с коллегами, особенно старшими. И все же едва ли он мог избежать встреч с Купкой в Пюто и не побывать хотя бы единожды у него в мастерской. Поэтому вопрос следует поставить иначе, нежели в терминах биографии или влияний. Он должен касаться целей, преследовавшихся несколькими живописцами, пусть даже независимо друг от друга, в этот решающий для истории модернизма год.
Мне кажется крайне маловероятным, чтобы Дюшан, в сентябре 1911 года очень серьезно и с описанными выше противоречивыми чувствами вступивший на путь преодоления кубизма, который год спустя приведет его к «отказу» от живописи, мог остаться в стороне от проблемы абстракции и амбициозных инициатив в направлении «основополагающего языка», «чистой живописи» и «бытия цвета». Биографических и даже стилистических фактов как таковых недостаточно, чтобы это подтвердить. Факты нам известны, и они говорят о том, что в 1911-1912 годах Дюшан оставался чужд проблем, занимавших совсем рядом с ним Купку или, чуть дальше, Делоне. Поиск «чистой живописи», создание живописного языка и т. п. его, судя по всему, не интересовали. К тому же в его творчестве нет и намека на абстракционистские опыты. Но мы располагаем и другими фактами: едва добившись признания в качестве живописца, он отказался от живописи, предпочел ей живописный номинализм и оставил в этот период множество заметок об условиях живописного языка, свидетельствующих как минимум о том, что вся его стратегия может быть понята исключительно в свете вопросов, поднимавшихся перед живописью в сей переломный момент ее истории. Сам резонанс его творчества склоняет к предлагаемой нами интерпретации: если отказ от живописи носит стратегический характер, в чем нет сомнения, то эта стратегия в принципе равнозначна отказу Мане от светотени, Сезанна —от перспективы и Малевича —от предметности. Поэтому есть все основания заключить, что проблема абстракции присутствует в творчестве Дюшана, хотя ни одного абстрактного произведения у него нет.
Но есть и еще кое-что. В Мюнхене, как мы видели, разрешились его борения, связанные со становлением живописцем, в Мюнхене он написал свою лучшую картину и сел в поезд размышлений, который вскоре привезет его к отказу от живописи. А в Париже, до Мюнхена, он так и не познакомился с Купкой, живя с ним рядом, и прошел мимо идеи чистого цвета, владевшей его живописью. Можно предположить, что именно отъезд из Парижа в Мюнхен заставил Дюшана открыть на нее глаза. Она не была совершенно ему неведома, а лишь подавлялась кубистской ортодоксией, служившей в то же время тем контекстом, в котором он пытался доказать плодотворность своего выхода из кубистского тупика. Цвет Купки, как, впрочем, и цвет Делоне, был по большому счету невидим кружку во главе с Глезом и Метценже. Купка, никогда кубистом не являвшийся, невзирая на соседство с братьями Дюшан, пребывал в изоляции. Вопрос его участия в салоне «Золотое сечение» остается открытым. Но, так или иначе, две «Аморфы», выставленные им в Осеннем Салоне, были приняты отрицательно, даже Аполлинером, которого в связи с этим можно заподозрить в ксенофобии. Впрочем, в самом конце 1912 года он прозреет к цвету, и его восторженная поддержка орфизма Делоне позволит забыть о том, как долго он его не замечал.
Тем временем в Мюнхене цвет господствовал всюду, и Дюшан, ощутив свободу от сезаннистского бремени, открыв для себя возможность «сецессио-нистской» живописной стратегии, увлекшись иронической практикой «искусств и ремесел», не мог не заметить там возврата цвета, вытеснявшегося в Париже.
Выразиться в его творчестве как влияние идея чистого цвета просто не успела. В Париже вытесненная, в Мюнхене она, несомненно, явилась его взору, но уже с тем, чтобы посредством одного из характерных для него скачков, еще ожидающих изучения, открыть путь не к абстракции, а к реди-мейду, не к отказу от изображения, а к отказу от живописи. Но, что еще примечательнее, реди-мейд, который, как мы
увидим, отвечает на вопрос о чистом цвете, тем самым возвращает этот вопрос в ту самую точку теоретического взаимодействия, в которой он внезапно возник для Купки,—туда, где Шеврёль, воспринятый на фоне символизма, а не позитивизма, открыл цвету «подступ к символическому». В связи с этим неудивительно, что Дюшан — следуя стратегии, которая уже становится для нас привычной,—замкнул этот «под--ступ к символическому» на себя в номиналистском смысле, согласно которому он оказывается отвлечением-откровением.
1
Duchamp М. Notes. Op. cit. N. 185, 186 (приведенная заметка дана на двух страницах). Заметка 251 из этого же издания, явно более поздняя и содержащая своего рода check-list [реестр (англ.)] «Большого стекла», вновь упоминает буквенный номинализм. Она начинается со слов: «1.—Воссоздать буквенный номинализм; 2. —явление и явленность?».