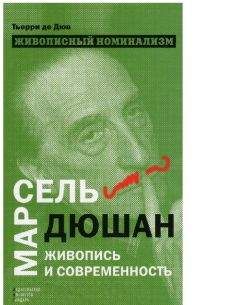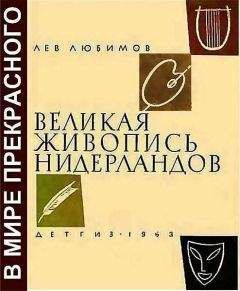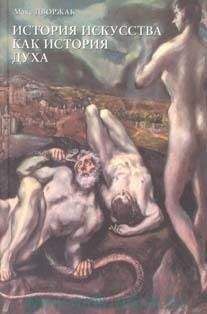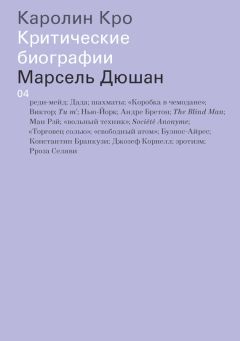Подчеркнем вновь заявляющую о себе в связи с тенденцией к чистому цвету тему «подступа к символическому»: «алфавит выразительных средств, черпаемых исключительно в физической природе цвета». «Первый диск» (1912), своей геометрической структурой, ровной закраской, а, главное, круглым форматом затрудняющий пространственное прочтение по схеме «фигура/фон», является, вне сомнения, наиболее радикальным выражением этого алфавита. Картина недвусмысленно взывает к созданию нового языка и возникает в творчестве Делоне внезапно, без явных предвестий («Пейзаж с диском» 1906-1907 годов, хотя он и свидетельствует о дивизионистском интересе к Шеврёлю, проникнут космическим символизмом, который в «Первом диске» начисто отсутствует), но по большому счету не получает и продолжения. Работы, следующие за ним,—«Круглые формы», «Солнце №1», «Солнце и луна» и т.д.—возвращаются как в названиях, так и в кубистской про-странственности к «напоминанию о конкретной реальности», без которого обходится «Первый диск». Делоне вмешивается в проблематику «создателей языка» на краткое мгновение.
Практически он на ней не задерживается — при том что именно к ней склоняется в теории. Особенно странной — именно здесь, быть может, узел противоречия,—кажется его привязанность к понятию ремесла. «Конечно, мы остаемся в области формы—то есть ремесла,—и не беремся философствовать об искусстве»3. Похвальная скромность со стороны практика, стремящегося избежать уклона в теорию, свойственного Глезу и Метценже. Но этот практик, основатель нового «изма», ясно сознающий, какое теоретическое наполнение он в него вкладывает, ставит знак равенства между практикой и ремеслом. «Новую реальность» живописи, основанную, по его словам, на симультанном контрасте и «непривычных ритмах», он постоянно, почти навязчиво, отождествляет с «новым симультанным ремеслом». Делоне словно опасается — больше, чем кто-либо из его соратников,—что отказ от изображения будет воспринят как отказ от технических сложностей живописи. В своих текстах он сплошь и рядом доказывает, что импрессионисты, Сёра, Сезанн, «одно время пытавшиеся разрушить старинное ремесло живописи», исторически готовили не что иное, как «начало более глубокого исследования», «исследования чистой живописи», «самодостаточного» цвета. И это исследование — «техническое»4. Склонность к монументальности, незадолго до «Первого диска» ярко выразившаяся в «Парижской мэрии», а вскоре после него —в «Команде Кардифа», не позволила Делоне оценить по достоинству собственный теоретический, эпистемологический скачок. Он тоскует по «большой живописи»: «Парижская мэрия» не лишена переклички с Пюви де Шаванном, а «Команда Кардифа» —с Таможенником Руссо, «этим добросовестным тружеником»5. Момент вдохновения между ними, давший рождение «Первому диску», остался не возымевшей эпистемологических следствий вспышкой. «Как только удивление проходит, только ремесло...» может, согласно Делоне, оправдать притязание живописи на ранг языка чистого цвета23. «Ибо вдохновение и ремесло неразрывно связаны, и их соотношение всегда должно быть точным»6.
Случай Делоне объясняет скорый тупик других версий абстракционизма — Кандинского и Купки. Кандинскому начало абстрактной живописи открылось с заложенным в ней опыте внутренней необходимости. Откровение воображаемого, которое позволит ему расширить метафору и спроецировать язык чистой живописи в фантазматический и идеальный мир, останется, вопреки всем его педагогическим усилиям, оторванным от его символической функции в реальном обществе. У Купки то же самое начало, очертившее место теоретического взаимодействия, окажется неустойчивым и не сможет раскрыть свои следствия. После «Вертикальных плоскостей» (1912-1913), еще сохраняющих радикальность «подступа к символическому», он вернется к космическо-теософскому символизму, и его живопись, утратив созвучность с эпистемологией эпохи, станет вскоре не более, чем декоративной.
Малевич и вопрос отказа
Два рассмотренных случая весьма поучительны для понимания — по контрасту — причин исторической значимости живописцев, придавших появлению абстрактной живописи устойчивый эпистемологический смысл. Я имею в виду, разумеется, Малевича и Мондриана. Вопреки распространенному мнению, дело не в том, что они разработали более «корректную», более «современную» или более «материалистическую» теорию живописи, нежели Купка и Кандинский. Понятно, что супрематизм многим обязан туманному мистицизму Успенского и что Мондриан не меньше, а может быть, и больше Купки почерпнул из теософии. Важно преобразование, которому подвергся весь этот идеализм в их живописи, важно, что он использовался ими — подчас невольно — в качестве идеологической поддержки решений, источник которых на самом деле был иным, связанным с острейшей восприимчивостью художников к историческим тенденциям живописи. А эти тенденции, в том числе и теоретические, имели отношение к ремеслу—в этом правота Делоне не пошатнулась. Чего он, однако, не понимал и что в тот же исторический период поняли Малевич и Мондриан, так это что ремесло и отказ от ремесла — одно и то же. Что следовавшие один за другим отказы, которые составляют предшествующую им историю модернизма,— отказ Мане от светотени, Сезанна от перспективы, их самих от изображения,—были не оздоровительным очищением, неким возвратом к пустоте перед строительством нового здания, а как раз таки ремеслом. Что авангардистская живопись, отрицая, казалось бы, старые ценности, тем самым утверждала новые и что в качестве достаточного оправдания этого утверждения, или созидания, как раз и требовалось видимое уничтожение традиции. Ведь это уничтожение и впрямь только видимое: художники отказывались лишь от уже мертвого, убитого не ими, а историческими, социальными, экономическими, технологическими условиями, которые в процессе индустриализации сделали живопись невозможным ремеслом.
В этом смысле Малевич и Мондриан, подобно Дюшану, не склонны к фантазму чистого листа. Тем более — к фантазму возврата к классике, всегда, даже у Делоне, являющемуся симптомом живописного регресса. Они знают, что великая живопись XX века может быть лишь живописью, отвергающей «великую живопись», и что «новое ремесло» должно бежать, как чумы, всего, что связано с «ремеслом». Отсюда механическая, «неумелая» и намеренно лишенная всяких примет мастерства манера Малевича и Мондриана. И отсюда же, вопреки всем формальным расхождениям, их глубокое родство с Дюшаном.
Скажут, что Малевич и Мондриан, в отличие от Дюшана, не отказались от живописи. Это так, и интуитивно, и эмпирически. Но с эпистемологической точки зрения они отказались от живописи в той же мере, в какой Дюшан от нее не отказался. Если присущая искусству функция истины заключается главным образом в том, чтобы выявлять реальные условия создания искусства, то реди-мейд Дюшана точно так же выявляет условия выживания живописи в обществе, которое делает ее ремесло невозможным, как «Черный квадрат» Малевича —невозможность заниматься живописью в обществе, которое продолжает идеологически обосновывать это ремесло. «Черный квадрат» не требовал от его автора никакого мастерства. Ремесло доступно кому угодно, в этом, очевидно, и состоит не только провокационная сила картины, но и ее эпистемологическая утвердительная мощь. Та же, что и у ре-ди-мейда, с поправкой на симметрию: реди-мейд обращается к историческим, и прежде всего технологическим условиям живописи как мертвой живописи. Он негативным образом — не будучи живописью — утверждает, что живопись может пережить свою смерть, лишь установив ее причину. И, будучи промышленным объектом, позитивно утверждает эту причину: индустриализация, которая убила ремесла, убила в том числе и ремесло живописи. «Черный квадрат» обращается к идеологическим следствиям этого же убийства. Он позитивно — оставаясь-таки живописью — утверждает, что живописная практика продолжает жить, поскольку не желает более быть ремеслом, и предает смерти идеологические импликации последнего. И будучи «рукотворным» негативно утверждает эти импликации: ремесло, павшее под ударами индустриального молота, представлено в «Черном квадрате» своим отсутствием.
Но, хотя эпистемологический скачок у Дюшана и Малевича с учетом симметрии один и тот же, хотя они избавляются от ремесла, чтобы заявить, что живопись мертва или жива, поскольку не является ремеслом, ошибкой в оценке следствий этого скачка было бы заключить, что «Черный квадрат» —это еще живопись, а реди-мейд — уже нет. Стратегия реди-мейда—действительно та же, что и в случае прочих отказов живописного модернизма от Мане до Малевича. Вопреки видимости, он не заводит «логику» отказа дальше, тем более, как сказали бы некоторые, слишком далеко — туда, где нить традиции в самом деле прерывается. По видимости, «Черный квадрат»—еще картина, а реди-мейд — уже просто объект. Однако граница между «еще живописью» и «уже не живописью», между «картиной» и «вещью» — обман зрения.