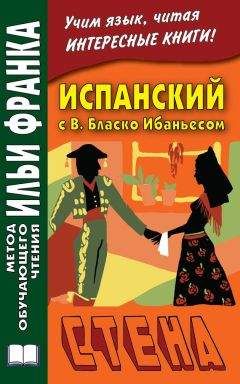Ничтожество людское вызывало въ Реновалесѣ отвращеніе, грусть, презрѣніе… но онъ не плакалъ. Его глаза видѣли только внѣшнее, матеріальное; мысли его были вѣчно полны только формами видимаго. Глядя на могилу, онъ замѣчалъ только ея вульгарную простоту и стыдился этого. Здѣсь покоилась, вѣдь, его жена, супруга великаго художника.
Онъ рѣшилъ поговорить съ нѣкоторьши знаменитыми скульпторами, своими пріятелями, и воздвигнуть на могилѣ величественную гробницу съ плачущими статуями и оригинальными символами супружеской вѣрности, любви и нѣжности. Только такая гробница была-бы достойна супруги Реновалеса… И больше ничего; мысли его не шли дальше; воображеніе его не могло проникнуть сквозь твердый мраморъ въ тайну смерти. Самая могила была безмолвна и пуста, и въ окружающей обстановкѣ не было ничего, что трогало-бы душу художника.
Онъ оставался безчувственнымъ; ничто не нарушало его душевнаго спокойствія и не мѣшало ему видѣть дѣйствительности. Кладбище было некрасивымъ, печальнымъ и противнымъ мѣстомъ; въ атмосферѣ чувствовалось гніеніе. Реновалесу чудился далекій запахъ жаренаго мяса, приносимый вѣтромъ, который наклонялъ остроконечныя верхушки кипарисовъ и игралъ старыми вѣнками и кустами розъ.
Маэстро недружелюбно взглянулъ на молчаливаго Котонера. Тотъ былъ виноватъ, по его мнѣнію, въ его равнодушіи. Присутствіе друга стѣсняло его и связывало его душу. Котонеръ былъ другомъ, но не близкимъ человѣкомъ, и стоялъ стѣною между нимъ и покойною. Онъ раздѣлялъ ихъ съ женою и мѣшалъ тому безмолвному діалогу любви и прощенія, о которомъ мечталъ маэстро. И Реновалесъ рѣшилъ придти одинъ. Въ одиночествѣ кладбище могло показаться ему инымъ.
И онъ дѣйствительно пришелъ, пришелъ на слѣдующій же день. Сторожъ встрѣтилъ его привѣтливо, догадавшись, что это выгодный кліентъ.
Въ это тихое и ясное утро кладбище показалось художнику болѣе величественнымъ. Говорить ему было не съ кѣмъ; человѣческихъ звуковъ онъ не слышалъ кромѣ своихъ собственныхъ шаговъ. Онъ поднимался по лѣстницамъ, проходилъ по колоннадамъ, оставляя за собою свое равнодушіе, съ тревогою думая о томъ, что каждый шагъ уноситъ его дальше отъ живыхъ людей, что ворота съ угрюмымъ сторожемъ остались далеко позади, и что онъ единственный живой человѣкъ, единственный, который думаетъ и можетъ чувствовать страхъ въ этомъ зловѣщемъ городѣ съ тысячами созданій, окутанныхъ атмосферою тайны, дѣлавшею ихъ безсильными, среди глухихъ и странныхъ звуковъ невѣдомаго міра, который пугаетъ людей своею черною, бездонною пропастью.
Подойдя къ могилѣ Хосефины, Реновалесъ снялъ шляпу.
Ничего. Вѣтеръ шелестѣлъ листьями деревьевъ и розовыхъ кустовъ, терявшихся вдали за перекрестками кладбища. Нѣсколько птицъ чирикали на акаціи, надъ головою художника, и эти звуки жизни, заглушавшіе шелестъ пышной растительности, успокаивали художника и изгоняли изъ его души дѣтскій страхъ, который мучилъ его на пути къ могилѣ въ гулкой колоннадѣ.
Реновалесъ долго стоялъ неподвижно, углубившись въ созерцаніе мраморнаго ящика, косо освѣщеннаго лучами солнца; одна сторона его сверкала, какъ золото, другая – бѣлая – пріобрѣла въ тѣни голубоватый оттѣнокъ. Но маэстро вздрогнулъ внезапно, словно его окликнулъ чей-то голосъ… Это былъ ея голосъ. Онъ заговорилъ громко, испытывая непреодолимую потребность излить свои мысли въ крикахъ, нарушить чѣмъ-нибудь живымъ окружающую тишину смерти.
– Хосефина, это я… Ты прощаешь мнѣ?
Онъ чувствовалъ горячую потребность, точно ребенокъ, услышать голосъ изъ загробнаго міра, излить на свою больную душу бальзамъ прощенія и забвенія, упасть на землю, заплакать, унизиться, чтобы она услышала его рыданія и улыбнулась изъ глубины небытія, при видѣ глубокаго переворота, происшедшаго въ направленіи его ума. Ему хотѣлось сказать ей – и онъ говорилъ это себѣ въ порывѣ возбужденія, – что любитъ ее, что она воскресла въ его мысляхъ теперь когда онъ потерялъ ее навсегда, что теперешняя любовь его превзошла прежнюю – временъ ея земного существованія. Ему было стыдно стоять передъ ея могилою, стыдно неравенства судьбы.
Онъ просилъ у нея прощенія въ томъ, что живъ, что чувстауетъ себя сильнымъ и еще молодымъ, и любитъ ее нереальною любовью, съ безумною надеждою, тогда какъ отнесся къ ея смерти съ полнымъ равнодушемъ, сосредоточивъ всѣ свои мысли на другой женщинѣ и ожидая смерти жены съ преступнымъ нетерпѣніемъ. Подлый онъ человѣкъ! И онъ остался живъ! А она, добрая, нѣжная, ушла навсегда, сгнила и растворилась въ глубинѣ вѣчной, ненасытной земли.
Онъ плакалъ, плакалъ, наконецъ, горячими и искренними слезами, вызывающими прощеніе. Это были давно желанныя слезы. Теперь онъ чувствовалъ, что близокъ къ женѣ, что они почти слились воедино, что ихъ раздѣляеть только мраморная доска и немножко земли. Воображеніе рисовало ему жалкіе останки Хосефины, ея косточки, вѣроятно, покрытыя гнилью – эпилогомъ жизни, – и онъ любилъ и обожалъ ихъ искренно и страстно, болѣе, чѣмъ все земное. To, что было прежде его Хосефиною, не могло вызвать у него ни отвращенія ни ужаса. О, если бы онъ могъ открыть этотъ бѣлый ящикъ! Если-бы онъ могъ поцѣловать останки обожаемаго тѣла, унести ихъ съ собою, никогда не разставаться съ ними, какъ древніе съ домашними богами!.. Кладбище исчезло передъ нимъ, онъ не слышалъ болѣе ни чириканья птицъ, ни шелеста вѣтвей. Ему чудилось, будто онъ живетъ въ облакѣ и видитъ въ густомъ туманѣ только бѣлую гробницу съ мраморнымъ гробомъ, послѣднее ложе обожаемой женщины.
Она прощала ему. Фигура ея вставала передъ нимъ въ такомъ видѣ, какою она была въ молодости, какою она запечатлѣлась на портретахъ подъ его кистью. Глубокій взглядъ Хосефины былъ устремленъ на него, и этотъ взглядъ былъ такой-же, какъ въ первые годы ихъ любви. Художнику слышался ея полудѣтскій голосъ, часто смѣявшійся надо всякими пустяками въ счастливую эпоху жизни. Хосефина воскресла. Образъ покойной стоялъ передъ нимъ и былъ созданъ, навѣрно, изъ невидимыхъ частичекъ ея существа, витавшихъ надъ могилою, издали ея жизненнаго образа, колыхавшагося еще вокругъ ея бренныхъ останковъ и замедлившаго оторваться отъ нихъ окончательно и исчезнуть въ глубинахъ невѣдомаго міра.
Слезы его непрерывно лились въ тишинѣ, доставляя ему пріятное облегченіе. Голосъ, прерываемый тяжелыми вздохами, внушалъ птицамъ страхъ и заставлялъ ихъ умолкнуть. «Хосефина, Хосефина!» И эхо въ пустынной мѣстности гулко отвѣчало глухимъ и насмѣшливымъ рычаньемъ, отдаваясь между гладкими стѣнами мавзолеевъ и изъ дальнихъ концовъ колоннадъ.
Въ неудержимомъ порывѣ любви и раскаянія художникъ занесъ одну ногу черезъ заржавѣвшія цѣпи вокругъ могилы. Ему хотѣлось чувствовать близость жены, уничтожить то небольшое разстояніе, что раздѣляло ихъ, высмѣять смерть поцѣлуемъ воскресшей любви и искренней признательности за прощеніе…
Огромное тѣло маэстро покрыло бѣлую гробницу, онъ охватилъ ее распростертыми руками, точно хотѣлъ поднять съ земли и унести съ собою. Губы его съ жадностью прильнули къ верхней части надгробной плиты.
Ему хотѣлось опредѣлить на доскѣ мѣсто, покрывавшее лицо покойной; и, рыча, словно раненое хищное животное, онъ принялся осыпать его наугадъ поцѣлуями, дико потрясая головою, какъ будто онъ хотѣлъ разбить ее о крѣпкій мраморъ.
Губы его восприняли ощущеніе раскаленнаго солнцемъ камня; во рту появился отвратительный вкусъ пыли. Реновалесъ всталъ и выпрямился, словно пробудился отъ сна, и кладбище, доселѣ невидимое, сразу воскресло вокругъ него. Далекій запахъ жженаго мяса снова поразилъ его обоняніе.
Теперь онъ видѣлъ могилу такою, какъ наканунѣ. Онъ пересталъ плакать. Глубокое разочарованіе осушило его слезы, и вся горечь сосредоточилась въ душѣ. Какое ужасное пробужденіе!.. Хосефины не было здѣсь; его окружала одна пустота. Тщетно искалъ-бы онъ чудное прошлое на полѣ смерти. Воспоминанія не могли найти пищи въ этой холодной землѣ, гдѣ кишѣли черви и гнили человѣческія тѣла. О, куда пришелъ онъ въ поискахъ за иллюзіями! Въ какомъ вонючемъ навозѣ хотѣлъ онъ воскресить чудныя розы своихъ воспоминаній!
Воображеніе рисовало ему подъ непріятнымъ мраморомъ маленькій черепъ съ насмѣшливою гримасою, хрупкія кости, закутанныя въ остатки кожи, и это видѣніе оставляло его вполнѣ холоднымъ и равнодушнымъ. Какое ему, правда, дѣло до этихъ ужасовъ? Нѣтъ, Хосефины не было здѣсь. Она дѣйствительно умерла, и, если ему придется увидѣть ее когда-либо, то отнюдь не у ея могилы.
Онъ заплакалъ снова, но на этотъ разъ невидимыми слезами; онъ оплакивалъ въ душѣ свое горькое одиночество и невозможность обмѣняться съ Хосефиною мыслями. Онъ испытывалъ горячую потребность высказать ей столько вещей, которыя жгли ему душу! Какъ поговорилъ-бы онъ теперь съ женою, если бы таинственная сила вернула ему ее на одну мкнуту!.. Онъ сталъ бы молить ее о прощеніи, бросился бы къ ея ногамъ, оплакивая свое крупное заблужденіе, тяжелый обманъ, заставившій его равнодушно жить рядомъ съ нею и гоняться за призрачными иллюзіями, подъ которыми скрывалась одна пустота, а теперь томиться тоскою по безвозвратномъ и безумною любовью къ мертвой послѣ того, что онъ отнесся съ презрѣніемъ къ живой. Онъ поклялся бы ей тысячу разъ въ искренности этой посмертной любви и глубокой тоски, вызванной ея смертью. А потомъ онъ уложилъ бы ее обратно на вѣчное ложе и ушелъ бы со спокойною совѣстью послѣ потрясающей исповѣди.