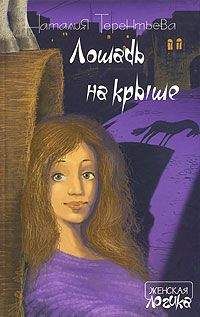голуби свили гнездо под крышей и кукла умиленно наблюдала как гадкие розовые создания, подрастая,
превращались в красивых белых и пестрых птиц. Но однажды они улетели и не вернулись назад. Кукла
осталась совсем одна. Она все время дремала, вспоминая долгую жизнь – выходки баловницы Жюли, ловкие
руки Фантины, свою первую неудачу и первую чудную свадьбу. «Время уносит все; длинный ряд годов
умеет менять и имя, и наружность, и характер, и судьбу» – как говаривал старый философ. Разум утихал в
ней, как потихоньку гаснет фитиль в оскудевшей масляной лампе. Ещё немного – и придет темнота, тело
станет кучкой ветхих лоскутов, а душа удалится… Кукла не знала, есть ли у неё душа, и старалась об этом
не думать. Будь что будет, главное что не крысы!
Когда стены и пол задрожали, поднимая клубы пыли, кукла решила, что она попросту умирает. Но
это всего лишь погибал её мир, темный сырой приют. Огромное чугунное ядро било в стену, обращая в
развалины ветхое строение, падали камни, дребезжали и осыпались стекла, Дом вздрогнул натруженным
старым телом, словно слон, сраженный масайскими копьями, тяжко вздохнул и рухнул. Кукла рухнула
вместе с ним. Её выбросило из выбитого окна прямо на мостовую, под ослепительно яркое солнце, в
разноцветный городской шум. В паре мест треснули, расползаясь, швы, из надрывов полезла сырая вата.
«Это конец» успела подумать кукла.
Её подняли чьи-то сухие холодные ручки в вязаных митенках.
– Боже, какое чудо. Настоящий шедевр, игрушка ручной работы. Вот так чепчик! А личико, личико
нарисованное – словно красавица спит и все понимает! Не бойся, малышка, тебе ничего не грозит.
Маленькая остроносая старушка осторожно уложила куклу на сгиб локтя, словно младенца, и
поспешила по улице. Экспонат сильно пострадал от ненадлежащего хранения, надлежало заняться
экстренной реставрацией. Кукла сама по себе молодая – судя по фасону чепчика, нарисованным румянам и
ручкам без пальцев, нулевые – двадцатые годы. Но парча и кружева старше, гораздо старше. Интересно, что
за мастер её работал?
Удивленная кукла успела разглядеть золотые буквы «Musee», подивиться мраморной лестнице с
полированными перилами и парадной бронзовой люстре. Потом её отнесли в маленькую аккуратную
комнатку и положили на застекленный стол. Бойкая старушка включила свет, разложила рядом с собой
целую кучу таинственных и, чего уж греха таить, страшноватых инструментов. Митенки она сменила на
резиновые перчатки, на морщинистой ручке кукла заметила синий номер, похожий на те, которыми хозяйки
метят бельё. Осторожно орудуя пинцетами, старушка освободила куклу от платья и чепчика, внимательно
осмотрела надрывы, задумалась вслух – поменять ли набивку или достаточно её просушить? Затем
железным инструментом подцепила ветхие панталончики и ахнула, увидев дыру в животе – игрушка
испорчена. Не безнадежно, но серьёзно, существенно. А что это там у нас? Ловкий пинцет подхватил
обрывок бумаги и развернул его. Старушка поднесла к глазам лупу. Эмма Югель… Да здравствует
Франция! …передайте отцу, что… гордиться дочерью. Две слезинки скатились с набрякших век, старушка
поспешно подхватила их мягкой салфеткой, чтобы не повредить экспонат.
Для куклы началась новая, удивительная и интересная жизнь. Две портнихи, ахая и болтая, ловко
сменили набивку, шелковой тонкой нитью заштопали усталую ткань, так что стало не разглядеть швов.
Чепчик оставили прежний, а вот платье пошили новое, из зеленого пышного бархата. На грудь прикололи
интересную брошь, похожую на остроконечный крест. И в одном из огромных залов поставили целую
витрину, освещенную яркими лампами, положив рядом с куклой полустершееся письмо.
Тысячи тысяч людей теперь проходили мимо, любовались и хвалили её, восхищались отважным
подвигом. Что тут отважного – просто валяться на чердаке, потихоньку отсыревая? Но наблюдать оказалось
преинтересно – посетители все время менялись, а вместе с ними менялись моды. Изредка в музей приходили
свадьбы, невесты волочили по паркету длинные шлейфы нарядных платьев – каждый год новых фасонов.
Иногда, словно, чувствуя, что кукла соскучилась, приходила старушка-директор, со своей веселой
веснушчатой внучкой и тихонько, чтобы никто не видел, разрешала им поиграть. Кукла шептала на ухо
новой подружке старые сказки, девочка смеялась, думая, что ей чудится. А потом – снова витрина,
подушечка и крепежи.
Иногда, холодными и долгими ночами по музею бродили крысы. Робко жались к огромным стенам,
сновали из угла в угол, прячась в тенях, не рискуя выйти на середину огромного зала. Сонная кукла
смотрела на них сверху вниз – как шлепают голые хвосты, как моргают яркие глазки-бусинки. Она больше
не боялась ни грызунов, ни чердаков, ни ночей. Подумаешь, глупость – крысы!
Брат Гильом
Очередное посвящение бесу Леонарду :)
Тяжело скрипели ступеньки. Кто-то грузный, одышливый поднимался, цепляясь за стены большой
ладонью, откашливаясь и плюясь. Не Лантье – он костлявый и шустрый, вечно в делах и походка его легка,
не толстуха Мадлон с её деревянными башмаками и подпрыгивающим от суеты шагом, не их сын дурачок
Николя – тот идет еле-еле, поднимет ногу и остановится, думает, не младший, Жак – носится, как угорелый.
От аптекаря за версту пахнет снадобьями, от врача бальзамическим уксусом и смолой, музыканты
насвистывают и притопывают, ростовщик разит чесноком и бормочет себе под нос. Кто-то чужой. Чужой.
Крышка старого сундука приподнялась бесшумно. Маленькое оконце рисовало на грязном полу круг
света, сквозь щели пробивалась причудливая сеть лучей и лучиков, в которых плясала пыль. Флакон с ядом
холодил пальцы – живым не дамся. Рыцарю должно встречать врагов стоя, с обнаженным мечом в руках,
сражаться, пока не упадешь в пыль… жаркую пыль пустыни, где визжат кони и режут воздух клинки,
гремят мамелюкские барабаны. Свирепые сарацины вопят «Амит! Амит! Смерть!», брат Гильом хрипит
«Бо-се-ан!!!», братья вторят ему хриплым ревом и смыкают щиты – вперед! Почему я не умер, не погиб
вместе с ними, Господи?!
Глухо бряцнул засов. Чужая рука коснулась ржавых петель, колыхнула дверь. Лантье устроил хитро –
не знающий тайны решит, что запоры не открывали лет сто, что на этом старом чердаке нет ничего, кроме
крыс, пыли и рухляди. Но вдруг слуга предал, вдруг подкуплен или ему угрожали?!
– Зачем вы трудились, батюшка? – раздался визгливый голос Мадлон. – Мы держим вино внизу, в
погребе, понимаете в по-гре-бе!
– Не кричи так, дочка, я ещё не глухой. У нас в деревне хозяйки хранили на чердаках колбасу,
подвешивали к стропилам целые связки.
– Здесь нет никакой колбасы, батюшка. Пойдемте в кухню, я налью вам горячего супа.
– С колбасой?
– Да-да-да, с колбасой!
…Батюшка – значит отец Мадлон, приехал навестить внуков. Лантье давно сирота. Обошлось.
Крышка сундука так и осталась приоткрытой. Брат Филипп, он же Филипп де Раван, рыцарь ордена
Храма, последний уцелевший из командорства Вилледье, поудобнее повернулся в своем убежище, почесал
изъеденный блохами живот и прикрыл глаза, погружаясь в привычную дрему. Он старался спать больше –
это облегчало тоску. Проклятые мыши сгрызли «Завоевание Константинополя» и засаленный список
Горация, других занятий в убежище не находилось. Руки и ноги слабели – шаги на чердаке могли услышать
снизу, поэтому приходилось лежать или сидеть.
Иногда, безлунными ночами, Лантье выводил бывшего господина вниз, в маленький дворик –
подышать дымным воздухом Эланкура, потоптаться по чахлой траве, подставить лицо дождю. Пару раз,
повинуясь мольбам вперемешку с приказами, доставал книги. Случалось, забывал принести еду или в срок
опорожнить поганое ведро. Филипп подозревал, что слуге приятно показывать свою власть над когда-то
всесильным тамплиером в белом плаще, но тут же гнал от себя подлые мысли – если его найдут, Лантье
разделит участь с хозяином. Убежище стоило рыцарю немало золота, но подлинная преданность за деньги
не покупается…
– Какая наивность, прекрасный Филипп! Твой тезка как побитый щенок прибежал к дверям Тампля
просить защиты от взбесившейся черни, он без счета запускал руки в ваши сокровищницы – и чем вы,
благородные рыцари, отплатили королю за доверие? Целовали друг друга в уста и плевали с высокой
колокольни на святое распятие? – высокий, писклявый и в то же время удивительно нежный голос