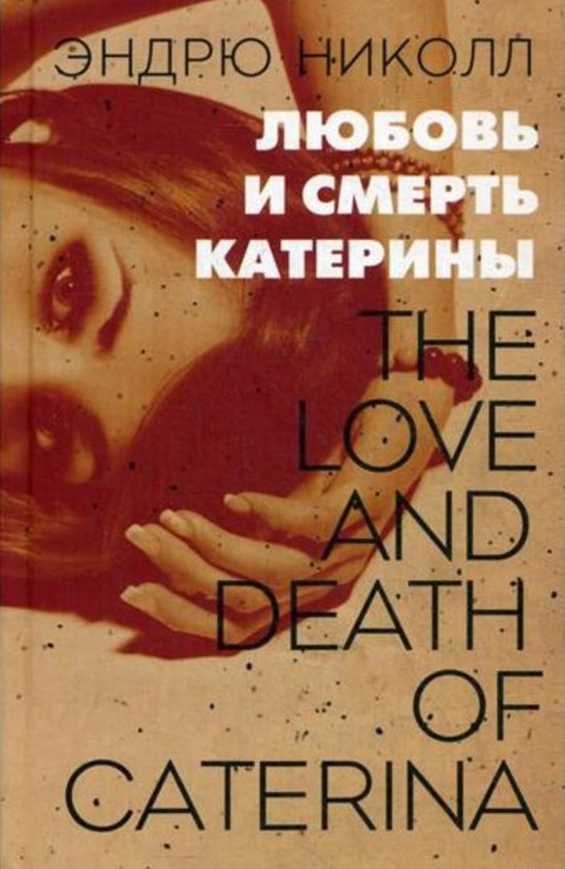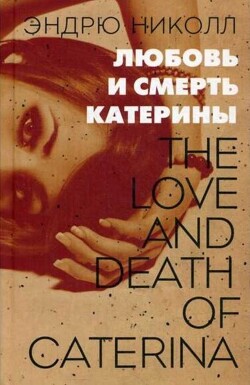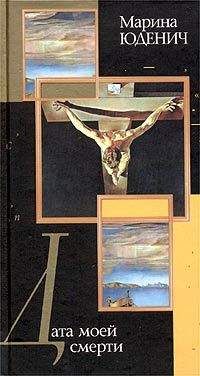ярость внезапно прошла, уступив место смущению и разочарованию. Он гневно уставился на женщину, не обращая внимания на то, что дверь за его спиной щелкнула.
— Беса ми куло, путо [13], — с этими словами сеньор Вальдес вылетел из магазина и огляделся по сторонам. Катерина сидела на скамейке на другой стороне улицы.
Когда он сел рядом, она тихонько сказала:
— Такие магазины не для меня.
— Мне стало ужасно стыдно.
— Правда? Ты стыдился меня?
— Не тебя, а себя. С чего это я так разорался? Да еще на такую… Вообще — на женщину.
— Тебе стыдно, что ты повел себя некорректно по отношению к человеку, стоящему ниже тебя на социальной лестнице?
— Ага, типа того.
— Видимо, в этом все дело. В ней ты увидел отражение отношения всех твоих знакомых; ведь они поведут себя точно так же! Поэтому ты и взбесился. Она одной фразой показала нам обоим, что я не смогу быть твоей женой.
— Нет, ты станешь моей женой. — Он резко вдохнул, потом с шумом выпустил воздух. — Прошу тебя, стань моей женой.
— Ведь ты — великий сеньор Л. Э. Вальдес. А я — девушка в рваных джинсах. Как я могу быть твоей женой?
— Можешь. Потому что мы любим друг друга. — В тот момент он сам верил в это.
— Да, мы любим друг друга, — Катерина тоже верила в это. — Но неужели ты думаешь, что твои богатенькие друзья и знакомые не узнают о том, что я родилась в горной деревне? Не увидят, что я ношу старые джинсы? Все эти профессора, журналисты, профессиональные модели и литературные редакторы? И что, им будет все равно, что я никогда не была в опере и что я не так умна, как они? О, я знаю, что умна, но не так, как они — я кусаю персик, а не режу на фарфоровой тарелочке специальным ножом. А твоя мать? Она тоже этого не заметит?
— Моей матери наплевать на персики. Она полюбит тебя хотя бы потому, что я тебя люблю.
— Думаешь, что сможешь приказать ей любить меня?
— Да. А остальное не имеет значения. Мне давно приелись и светскость, и цинизм. Какое счастье, что в тебе этого нет! Конечно, поначалу тебе придется несладко. И мне тоже… Я ведь мужчина средних лет, которому посчастливилось подцепить юную красотку. Все умрут от зависти, это точно.
— Все умрут от смеха.
— Пусть смеются, какое нам дело?
— А если они будут смеяться надо мной? Вспомни, что с тобой было десять минут назад. Та женщина меня просто не заметила, а ты чуть не прибил ее.
— Никто не посмеет смеяться над тобой.
— Бедный Чиано, они все равно будут.
— Да, — внезапно признал он. — Будут. Ты сможешь выдержать?
В магазине угловатая женщина отпустила жалюзи, уголок которых приподнимала, чтобы посмотреть на улицу, и пошла в глубь зала, покачивая худыми бедрами, как каравелла, скользящая по морской глади, аккуратно ставя один острый носок перед другим, вдавливая в мягкий ковер тонкие каблуки, отмечая дорожкой точек свой путь. Так ягуар неслышно крадется по мху вдоль берега реки, выслеживая добычу, и теряется в тени лиан, а мох выпрямляется за ним, не оставляя следов зверя.
Вздохнув, Катерина подняла на него глаза.
— Да, — сказала она. — Ради тебя я выдержу все.
* * *
Сеньор Вальдес никогда не приходил к матери, заранее не договорившись. Он мог без стука зайти в кабинет к декану, запросто встречался за кофе или за рюмкой бренди с главным редактором журнала «Нация» и, если бы захотел, мог прийти на аудиенцию к самому сеньору Полковнику-Президенту, стоило только позвонить. Однако сеньора София Антония де ла Сантисима Тринидад и Торре Бланко Вальдес по семейному статусу стояла немного выше Президента и чуть ниже Папы Римского.
Они встречались так часто, как требовали приличия и сыновний долг, и эти встречи были спланированы и так же формальны, как танго, но без тонкой интриги кабесео. Они не обменивались многообещающими взглядами, не играли бровями, в их встречах не было ничего неожиданного: ни боязни быть отверженным, ни надежды на взаимность. Сеньора Вальдес всегда настаивала на записке или по крайней мере телефонном звонке — так она защищала право на личную жизнь. И хотя она никогда не отказала бы сыну во встрече, он должен был помнить, что его мать пользуется неизменной популярностью в обществе и часто бывает занята.
С их последней встречи прошло много дней, и расстались они весьма холодно. Со временем чувство неловкости у сеньора Вальдеса усугубилось, так что к матери он не спешил. К тому же сеньор Вальдес не колебался в предпочтениях, если приходилось выбирать между послеобеденным отдыхом с прелестной девушкой и визитом к надутой матери. Да и что мать могла ему сказать? Недовольно звякая ложечкой о стенку чашки из китайского фарфора, поведать очередную caгy об удачной женитьбе какого-нибудь кузена, завершившейся рождением младенца? Нет, спасибо.
И все же он, без согласования, стоял в ее просторном вестибюле в десять часов утра и в третий раз нажимал серебристую кнопку звонка — идентичную целому ряду одинаковых серебристых кнопок. Только под этой кнопкой черными буквами было выгравировано Вальдес.
Звонок немузыкально трещал.
Она спросила:
— Кто там? — Голос, искаженный переговорным устройством, был в целом узнаваем.
— Доброе утро, мама. Это Чиано. — И так ясно, что, кроме него, в целом мире никто не назвал бы ее мамой!
Последовало молчание, которое длилось сталь долго, что он уже собирался переспросить: «Мама?»
Но тут она сказала:
— Доброе утро, милый. Какой приятный сюрприз.
— Можно подняться?
Последовала еще одна наэлектризованная пауза.
— Да, милый. Конечно. Конечно. — Она нажала кнопку.
Когда лифт поднял их на третий этаж и металлическая дверь сложилась гармошкой и, слегка скрипнув, отъехала в сторону, упершись в резиновые амортизаторы и пахнув на них машинным маслом, когда они пересекли коридор и встали перед приоткрывшейся дверью, больше всего его ужаснули ее ноги. Конечно, было только десять часов утра, но сеньор Вальдес испытал шок оттого, что увидел мать практически раздетой — на ней была лишь короткая белая ночная рубашка, а на плечи накинут халат. Неубранные волосы седым гребнем поднимались надо лбом, но все же страшнее всего были ноги.
Настало одно из тех мгновений, когда все понимают с кристальной ясностью, что изменить ничего уже нельзя и можно лишь пытаться уменьшить размеры катастрофы.
Сеньор Вальдес не помнил, когда в последний раз видел ноги матери — после многих десятилетий ношения узких туфель пальцы деформировались, скрючились, налезли один на другой, а ногти стали