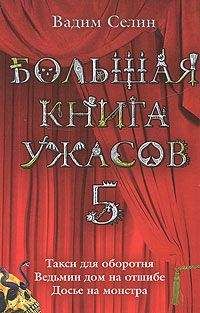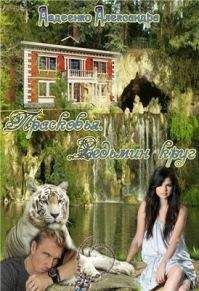за горизонтом, тучи, обрюзгшие, отяжелевшие. Волокут черные космы, ползут неспешно, неумолимо.
Поспешить бы.
Но мы идем медленно, и травы расступаются, выпуская тропинку-змею. А лес все ближе. И вот уже над головой звенят листочки осин. Надо же, рыжиною тронуты. Стало быть, осень близко.
Осень здесь красивая.
Должна быть.
Зачем-то говорю это вслух.
- Не знаю, - признается Лют. Он идет совсем рядом. – Я обычно поздно возвращался, в ноябре уже… сентябрь и октябрь еще можно копать, если дождей нет. И закон подлости никто не отменял, как сезон к завершению, так самое интересное и начинается… ну да и позже, когда рабочие уходят, надо все законсервировать. Защиту поставить, чтобы не залило, не оползло… ну и так. Вот и получилось, что приезжал, когда уже здесь вовсю дожди, слякоть и первый снег. Все серое и мутное. И тоска.
Лес гудит и вздыхает.
А тропа тянется. И в какой-то момент княжич останавливается.
- Извини. Мне дальше нельзя. Я тут обожду, ладно?
Идти всего ничего.
И я киваю, но тут же спохватываюсь.
- Я могу долго…
- Я и долго обожду. Я терпеливый. Ты только… осторожней, ладно?
- Ладно, - обещаю ему.
Здесь… тихо.
И безопасно.
Я знаю. И тропа снова поворачивает, чтобы вывести к дубу.
- Здравствуй, - я кланяюсь древу. Быть может, это и не тот дуб, что связывает воедино все миры, но его отражение или потомок, или… не важно. Главное, что он меня тоже приветствует, мягкой силой, которая ложится на плечи пуховым платком. Даже не так… я вдруг понимаю, что мама, она рядом, за спиной. И не только она, но и отец. Надо было бы спросить снимок… должен же был остаться. Или портрет. И мамино фото тоже поискать.
Для альбома.
Дети?
Пускай.
И любовь запретная, как шоколад, который нельзя до обеда и вообще, если много. Детям он вреден. Взрослым, впрочем, тоже. Но ощущение присутствия становится таким ярким, что я с трудом удерживаюсь, чтобы не обернуться.
Нельзя.
Как в сказке. Обернусь и они исчезнут. А так… они здесь. Со мной. И рядом. Вместе? Пусть будут. И может, ошибаются богословы, может, бессмертная душа не только людям дана. И там, за чертой, отец и мама встретились.
Хорошо бы.
Я подхожу к источнику и опускаюсь на траву, склоняюсь над темным зеркалом воды, пытаясь разглядеть хоть что-то, но в черноте – лишь я.
Нынешняя.
И та…
Давняя?
Забытая?
Я касаюсь воды, зачерпываю, омывая лицо. И она течет сквозь пальцы на одежду, холодная и успокаивающая. Её и пить можно. Мне она не причинит вреда, да и живая ли, мертвая – прежде всего именно вода. И я пью.
- Да за семью долами, за семью холмами, за морем-окияном на острове Буяне…
Слова сами складываются.
Заговор?
Очередной глубоко ненаучный?
- Потечет вода по лицу, смоет вода слова тайные, слова заветные…
Здесь все иначе.
- …слетит семь замков навешанных, спадут семь оков поставленных…
И память вернется.
Моя.
…больница. Коридор. Пустота. И страх. Сердце колотится быстро-быстро, а еще я задыхаюсь. Воздух спертый, тяжелый и в горле застревает. Мне бы откашляться, но сил нет. Я сползаю по стене и закрываю глаза. Никого нет. Ночь глубокая. То есть там, где-то в крохотной каморке, скрывается дежурная медсестра. Она всегда ложится спать, накрывая топчан вязаной шалью. И меня пару раз там укладывала, ворча и ругаясь, что меня давно бы следовало сдать куда надо.
Но не сдает.
А укрывает тонким одеяльцем. И пряники приносит.
…а ведь они действительно должны были бы вызвать социального работника. Мама в тяжелом состоянии, смотреть за мной некому. И сдать меня – самый логичный разумный выход. Но почему-то не сдавали.
Не вызывали.
А позволяли оставаться в больничке.
В отдельной палате.
Разум цепляется и за эту странность. Больничка старая, переполненная, и в палатах давно уже не по две-три кровати, а по четыре и даже пять. Люди понимают. Люди не скандалят. Но в эти палаты я заглядываю редко, потому что боюсь.
В них пахнет болью и скорой смертью. Лекарствами. И спертый напоенный этими запахами воздух не пригоден для дыхания.
Память.
Маму ведь положили сперва в такую вот, общую палату. Кровать у стены. Тумбочка. И чье-то кряхтение, стоны, молитва, которую наговаривают шепотом.
А потом вдруг нашлась отдельная.
Махонькая – в нее влезли та же кровать и тумбочка – но зато с умывальником и своим холодильником. Был даже телевизор, но он не работал. Палата располагалась в самом дальнем конце коридора.
И была платной.
Это я сейчас осознаю и ясно. Откуда у мамы деньги?
Не знаю.
И вода с памятью возвращают туда, снова. Мама умирает. Я чувствую её боль. И тяну, тяну, вытягиваю в себя, пока не заканчивается воздух. И силы. И все-то. И я выбираюсь из этой палаты, как из ловушки, не способная смотреть и чувствовать. Понимаю, что надо позвать на помощь, но сил нет. Ночь на дворе. И кнопка вызова не работает. А до поста, до коморки, где спит медсестра, я просто-напросто не дойду. И потому сползаю по влажноватой стене.
А еще знаю, что умру.
И пускай.
Зачем мне…
- Дыши, - строго говорит кто-то. И пальцы его, твердые, сжимают ребра. – Дыши, дитя.
Меня поднимают с легкостью, будто бы я не вешу ничего. И мои ноги болтаются в воздухе. А я не сопротивляюсь. Я – кукла, только большая.
- Плохо.
У того, кто меня держит, белое лицо. А глаза… странные глаза, я таких никогда не видела. И эти глаза завораживают. Я и теряюсь в них, а прихожу в себя там, в палате.
Мама в постели.
Белая такая… ей больно. И я тянусь к этой боли, чтобы забрать её. Но мне не позволяют.
- Ты и без того отдала слишком много, - говорит мужчина, который держит меня за руку. А второй касается маминого лба. Её ресницы вздрагивают. И боль… боль гаснет. А на губы мамы ложится дубовый лист. Это тоже странно.
Очень.
Но правильно.
- Вот так. Утром она проснется, - говорит мужчина.
- И поправится?
- Нет, - он качает головой. – Она проснется, чтобы обнять тебя. И уйдет. Без боли.
Теперь я понимаю, что это уже много. очень. Но тогда я вырываю руку из его руки.
- Ты можешь её вылечить!
- Нет.
- Можешь! Ты… ты волшебник! Я знаю! Ты можешь…
И я, не в