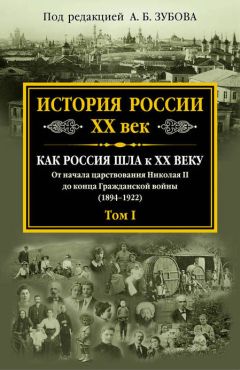Там же, с. 144.
Там же, с. 143-144 (выделено мною. — АЯ.)
ными руками, совершаться Святой Русью. У нас, впрочем, есть некоторые основания сомневаться в том, что освобождение славян и впрямь было для Погодина столь уж святым делом. Он, собственно, и сам сообщает нам об этом с откровенностью, ничего подобного которой мы никогда больше не услышим от его последователей, тем более сегодняшних. «Скажу даже вот что: если мы теперь не сделаем этого, то сделают это наши враги... да, если мы не воспользуемся теперь благоприятными обстоятельствами, если пожертвуем славянскими интересами ...тогда мы будем иметь против себя не одну Польшу, а десять».133
Другими словами, вовсе не свободой «братьев» озабочен был Погодин, но лишь тем, чтобы их освобождение открыло нам путь к Славянскому Союзу и «универсальной империи». И страшно боялся, как бы не обратились освобожденные другими «братья» против Большого Брата. Всяческие ужасы пророчил он в этом случае России. «Имея против себя славян — и это будут уже самые смертельные враги России, — укрепляйте Киев и чините Годуновскую стену в Смоленске. Россия снизойдет на степень держав второго класса... Поруганная и осрамленная, не только в глазах современников, но и потомства, не умев исполнить своего исторического предназначения».134
Как увидит в следующей главе читатель, полтора десятилетия спустя Н.Я.Данилевский практически буквально повторит этот аргумент в своей «России и Европе». Нет, я ни на минуту не подозреваю Данилевского в плагиате. Напротив, совершенно очевидно, что оба мыслителя пришли к одинаковому заключению совершенно независимо друг от друга. Но именно это совпадение лишь подтверждает нашу гипотезу о том, какую головокружительную метаморфозу произвел в национальном сознании России усвоенный вместе с новой идеологической формулой наполеоновский комплекс. Отныне её правящая элита устами двух своих выдающихся политических мыслителей отказывалась считать свою страну одной из великих держав Европы, как считала при Екатерине или при Александре I. Отныне жила она «наполеоновской» идеей передела Европы.
Там же, с. 79.
Разумеется, в массовом сознании выглядело это всё, как мы уже говорили, совсем иначе. Для людей, как А.Ф. Тютчева, «историческое предназначение России» и «определение Божественного промысла» исчерпывались бескорыстным подвигом освобождения единоверцев. Только для тех, кто внушил ей такую возвышенную идею, было это освобождение, как мы видели, всего лишь пропагандистским, пиаровским, как сказали бы сегодня циники, прикрытием передела Европы.
Глава шестая Рождение наполеоновского комплекса
Теперь, я думаю, понятно читателю, почему так неразрывно переплелись в письмах Погодина «священный долг» с «вещественны- ми выгодами» и «святое дело» с «законной добычей».
Позорный
мир Естественно, А.Ф. Тютчева преклонялась перед Погодиным. «Вот человек, у которого есть определенный политический идеал и вера в этот идеал».135 Понятия не имею, почему отказывала она в этом собственному отцу. Может быть, потому, что Федор Иванович казался ей, по её словам, слишком «не твердым в области религиозных убеждений и нравственных принципов»136 А может быть потому, что его вязкая «мюнхенская» философия, весь этот «политический мистицизм», по выражению С.В. Бахрушина,137 не затронул эмоциональные ctpyHbi в её православном сердце. Как бы то ни было, она, вместе с большинством российского политического класса, отдала решительное предпочтение простой, как дважды два, «славянской идее» Погодина, которая, с одной стороны, не требовала особых умственных усилий, а с другой, представлялась ей святым делом.
Кончилось тем, как мы знаем, что и сам Тютчев перешел в конечном счете на позиции соперника. А дочь его стала активнейшей пропагандисткой этих идей при дворе и в обществе («я всегда испытываю потребность высказывать свое мнение очень рез-
Анна Тютчева. Цит. соч., с. 168.
Там же, с. 75.
ко и веду пропаганду с оружием в руках»).138 И нет поэтому лучшего способа проследить, сколь глубоко проникла погодинская им- перско-славянская идея в национальное сознание российской элиты, нежели познакомившись с тем, как переживала Анна Федоровна бесславное окончание Крымской войны и предстоявший мирный договор.
До такой степени полно усвоила она эту идею, что даже очевидные противоречия её не смущали. Вот пример. Рассказывая о том, как её отец «постоянно и в прозе и в стихах повторяет, что Россия призвана воплотить великую идею всемирной христианской империи», ту самую, между прочим, о которой мечтал Наполеон, А.Ф. при всем своем благочестии ни на минуту не задалась вопросом, хорошо ли, правильно ли, праведно ли, наконец, для православной России следовать за мечтой богопротивного Наполеона. Мучает её совсем другой вопрос: «Неужели России, такой могущественной в своём христианском смирении, суждено осуществить такую великую задачу?»139 Иначе говоря, совершенно так же, как Погодин, не заметила она противоречия между «святым делом» и «законной добычей», между православным призванием России и наполеоновской мечтой.
Есть, однако, вещи и более серьезные. 26 августа 1856 года записывает она такую удивительную для фрейлины императорского двора мысль: «Я не могла неоднократно не задавать себе вопроса, какое будущее ожидает народ, высшие классы которого проникнуты глубоким растлением... низшие же классы погрязают в рабстве, в угнетении и систематически поддерживаемом невежестве».140 И тем не менее опять-таки не приходило ей в голову усомниться в предназначении такого народа возглавить гигантскую империю, способную, как скажет полтора столетия спустя другая экзальтированная барышня, превратить неправославную Европу в «довесок Евразии, соскальзывающий в Атлантический океан». Также, впрочем, как не приходило это в голову Погодину, которому, как известно, принадлежит еще более уничтожающая характеристика своего
Там же, с. 245. *
Там же, с. 70-71.
народа: «Русский народ прекрасен. Но прекрасен он пока в возможности. В действительности же он низок, ужасен и скотен».141
Вернемся, однако, к переживаниям Анны Федоровны по поводу предстоявшего мирного договора. 24 декабря 1855 года она записывала: «Здесь все стоят за мир, потому что мы трусы».1421 января 1856: «Император, который должен был принять сегодня [австрийского посланника] Эстергази, отказался видеть его. Бог в своем милосердии еще раз оградил нас от унизительного мира».143 6 января: «Вчера в городе говорили, что Эстергази покидает Петербург... а сегодня только и речи, что о мире. Это объясняет мне состояние раздражения, в котором был император в эти дни; может быть, его мучила совесть за то, что он уступил и подписался под позором России... Бог знает, как я люблю императрицу. Но если будет задета честь России, я уже не смогу любить ни её, ни государя».144
Самое тут интересное, что Тютчева не только ничего не знала о действительном положении дел в стране и на фронтах, но и не хотела знать. Не знала даже самого унизительного, того, что новые условия мира были несопоставимо жестче старых «четырех пунктов», и отныне России вообще запрещалось держать на Черном море военный флот. Бесчестье для неё лишь в одном: эти условия включали «отказ от покровительства восточным христианам»,145 т.е. оттого самого «Божьего суда с Востоком и с Магометом», идею которого внушил ей Погодин. Именно в этом был для неё позор России. И не для неё одной. Вот запись от 8 января: «Мужчины плакали от стыда, а я, которая так верила в^мператрицу!.. Она мне сказала, что им тоже это очень многого стоило, но что Россия в настоящее время не в состоянии продолжать войну. Я ей возразила то, что повторяют все, что министр финансов и военный министр — невежды, что нужно попробовать других людей прежде, чем отчаяться в чести России... Я была до такой степени вне себя, что мне ничего не стоило повторить императрице все самые суровые суждения, которым их подвергают... Если бы я не
Quoted in N. Riasanovsky. Op. eft., p. 99.
Анна Тютчева. Цит. соч., с. 227.
Там же, с. 229.
Там же, с. 231.
любила её так сильно, я бы не страдала так. Они не понимают того, что делают... когда подвергают честь России четвертованию».146
ю января: «Я так страдаю, так страдаю... Россия опозорена и кем же? Теми, кого я любила всеми силами своего существа... Я ей сказала, что все в отчаянии, говорят, что императору, вероятно, дали наркотические средства, чтобы заставить его подписать такие позорные для России условия».147 Беззаветная вера Тютчевой в славянскую идею на наших глазах сделала невозможным осмысленный диалог даже с самыми дорогими ей людьми. Она просто отказывалась понять, что война проиграна безнадежно, что положение страны катастрофическое и продолжение войны поставило бы под угрозу само существование империи.