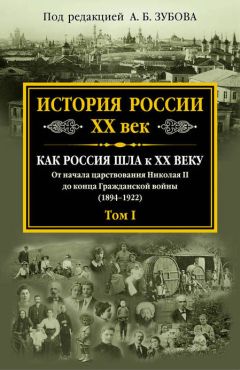А как еще, спрашивается, можно было оправдать свое право на рабовладение, если не ссылкой на «особый путь России»? Вот почему и кончилось дело вовсе не интеграцией в Европу, а напротив, ан- типетровским переворотом Николая и жестокой расправой над декабристами, которые попытались эту стену разрушить.
Сегодняшний эквивалент былого рабовладения и, стало быть, стены, отделяющей страну от Европы, — это, как мы видели, фантомный наполеоновский комплекс и неумирающая мечта об Империи, к которой значительная часть российской элиты привязана, похоже, ничуть не меньше, чем к самодержавию во времена Александра. Естественно, что «особый путь» опять фигурирует на сцене как их идеологическое оправдание. И интеграция в Европу опять иронически изображается как «втискивание России в „мировую цивилизацию"». Разумеется, в кавычках. Точнее других, пожалуй, сформулировал эту неоимперскую идею А.Г. Дугин. Почти буквально повторяя Тютчева и Погодина (хотя почему-то без ссылки), он тоже считает, что
155 Р. Медведев. Цит. соч., с. 400.
«Россия в рамках РФ является не только территориально недостаточным геополитическим образованием, но и принципиально ложным решением вопроса». Правильное же его решение должно исходить, по мнению Дугина,
«из сугубо имперского понимания исторической миссии России, которая либо должна стать самостоятельным автаркийным континентом, либо отклониться от своего исторического предназна- чения»}ье
Конечно, эта имперская фракция российской элиты всей душой за экономическую модернизацию страны. Но лишь потому, что такая модернизация — необходимое условие возрождения сверхдержавного статуса России, того, что Дугин называет «собиранием Империи». И так же, как при Александре, встанет оно стеной против мечты Чаадаева.
Так способен ли президент Путин сломать эту стену, добившись того, чего не добился Александр? Понимает ли он свою проблему так же, как понимал её император? Есть ли, наконец, у него шансы предотвратить реваншистский переворот, подобный николаевскому? Если это имел в виду Медведев, то он, повторяю, прав, ответа на этот вопрос нет и у самого Путина.
Именно по этой причине преждевременным, боюсь, представляется оптимистический прогноз Нью-Йорк Тайме, Вот что предсказывала она по свежим следам событий: «Не будет преувеличением сказать, что события и сентября, быть может, дадут России то, чего не сумели ей дать царь Петр Великий, императрица Екатериной президент Ельцин — прочное место в структурах Запада впервые за тысячелетие.»157 Преждевременным выглядит этот прогноз просто потому, что покуда не излечится Россия от своего имперского, сверхдержавного комплекса, мир с Европой так и останется перемирием, как обещала своей безутешной фрейлине молодая императрица, жена царя-освободителя. Этим, надо полагать, и объясняется удивительное совпадение сегодняшних «патриотических» изданий с истерическими монологами . Анны Федоровны.
1S6 Александр Дугин. Основы геополитики, М., 1997, с. 418. ls7 The New York Times, Octoben, 2001.
Глава шестая Рождение наполеоновского комплекса
«Человек неумный и опьяненный
лестью» Возвращаясь, однако,
. к нашему сюжету, скажу, что, если бы А.Ф. Тютчева хоть сколько-нибудь понимала ситуацию, в которой оказалась после николаевской авантюры Россия, она несомненно пришла бы в ужас. На её счастье, понимала она в этих делах примерно столько же, сколько сегодня, скажем, понимает Н.А. Нарочницкая.
Между тем империя трещала по швам. Её народы, включая славянские, в преданность которых общему делу так глубоко верила Тютчева, готовы были подняться против России. Как сказал на военном совете з января П.Д. Киселев, «на Волыни и в Подолии недовольные обнаруживают большую деятельность». Но речь шла не только об украинцах. «Финляндия при всем своем благожелательстве жаждет вернуться под власть Швеции. Наконец, Польша настолько нас ненавидит, что она поднимется вся, как только военные операции союзников дадут ей к этому возможность». Не присутствовавший на совете главнокомандующий Крымской армией князь Горчаков прислал свое мнение с фельдегерем. «Если бы мы продолжали борьбу, — нечаянно повторил он Киселева, — мы лишились бы Финляндии, остзейских губерний, Царства Польского, западных губерний, Кавказа, Грузии и ограничились бы тем, что некогда называлось великим княжеством московским».158
Конечно, Тютчева на это отвечала: «Пусть скажет государь словами Александра Благословенного: Пойдем в Сибирь, а не уступим врагу! — и мы все с радостью последуем за ним».159 Все ли? Её будущий муж и лидер славянофилов И.С. Аксаков писал своему отцу 25 января из Бендер, из действующей армии: «Если вам будут говорить о негодовании армии по случаю позорного мира — не верьте. За исключением очень и очень малого числа, все остальные радехоньки».160
История России в XIX веке, M., 1907, вып. 9, с. 65.
Анна Тютчева. Цит. соч., с. 237.
Одним словом, складывался новый консенсус российского политического класса совсем непросто. Важно, однако, что именно в горниле «позорного мира» 1856 года он, похоже, сложился окончательно. И православно-славянская идея Погодина, как свидетельствует Тютчева, вошла в состав национального сознания. Вошла всерьез и надолго. Многие десятилетия придется России расхлебывать заваренную тогда Николаем кашу...
А фрейлина, что ж? Она, конечно, помирилась со своими августейшими покровителями. Простила она их еще, оказывается, и потому, что «несчастный император Александр пожинает горькие плоды царствования своего отца, который во внешней политике и во внутреннем управлении принес всё в жертву внешней форме, как человек неумный и опьяненный лестью».161
Глава шестая Рождение
наполеоновского комплекса Д/| Q С КО В С К И Й ОрЭКуЛ
И очень, наверное, удивилась бы Анна Федоровна, узнай она, что сам её вдохновитель Погодин вовсе не переживал, подобно ей, по поводу позорного мира. Он ожидал много худшего. В письме к её отцу от 21 января 1856 года Погодин объяснял: «Мир упал к нам, как снег на голову... У меня, как будто у оракула, спрашивают мнения... Сообщаю вам, а в публику пускать не надо... Никак не помышлял я, чтоб враги дали нам мир на таких выгодных для нас,*сравнительно с обстоятельствами, условиях. Борьба, казалось мне, завязалась не на живот, а насмерть».162
Прежде всего бросается здесь в глаза странная смесь цинизма и торжества. Цинично замечание мэтра, что «публике», т.е. простым смертным, как А.Ф. Тютчева, безоглядно ему поверившим, знать его истинное мнение о позорном мире ни к чему. С другой стороны, однако, не намерен был он и скрывать свое торжество: у него, а не у бывшего соперника, спрашиваюттеперь мнение, «как будто у оракула». Для него, надо полагать, было важно, чтобы Тютчев услышал это из первых, как говорится, рук.
Там же, с. 236.
Mj7. Погодин. Цит. соч., с. 341.
Еще бестактнее, что Погодин не чувствовал ни малейшей ответственности за свой «наполеоновский» сценарий, который вполне мог привести, по его собственному признанию, к «борьбе не на живот, а насмерть» с Европой, к борьбе, которая ставила под вопрос само существование империи. Не могжё он в конце концов не понимать, что лишь смерть Николая и позорный мир предотвратили самое худшее, то, чего отнюдь не скрывали на военном совете Киселев и Горчаков. Ведь именно поэтому условия мира, которые принесли столько горьких переживаний его последователям, кажутся ему даже «выгодными для нас».
По сравнению с таким цинизмом желание еще раз повернуть нож в ране бывшего соперника кажется всего лишь невинным ребячеством. Конечно же, Тютчеву наверняка было до крайности неприятно, что Погодин связывал будущее своей Славянской идеи именно с ненавистной Федору Ивановичу Францией, выступавшей гарантом безопасности еще более ненавистного ему Ватикана. Погодин, однако, деликатностью не страдал. «Ключ к положению дел, — писал он, — находится в руках Бонапарта... Видно, таков был его первоначальный план... заключить союз с Россией».163 И чтобы совсем уж не осталось сомнений в том, что он, Погодин, думает о таком союзе, добавлял в письме от 8 мая 1856-го: «Турцию должны разделить Франция и Россия, потому что они сильнее прочих государств и могут удержать свою добычу».164
Конечно же, «оракул» опять ошибался. И грубо. После Парижского мира 1856 года Европа была уже совсем нета, что до него. Роли переменились. На «первое место среди царств вселенной» опять претендовала Франция. Наполеон III Бонапарт, вообразивший себя вождем новой континентальной сверхдержавы, был теперь так же высокомерен, как за три года до этого Николай. И сам даже Погодин не решался возразить против его первенства: «Первое лицо в Европе [теперь] — это Бонапарт. Он умен, смел и счастлив, в этом надо согласиться».165 А только что с позором свергнутая со сверхдержавного Олимпа Россия, напротив, вступала теперь в фантом-