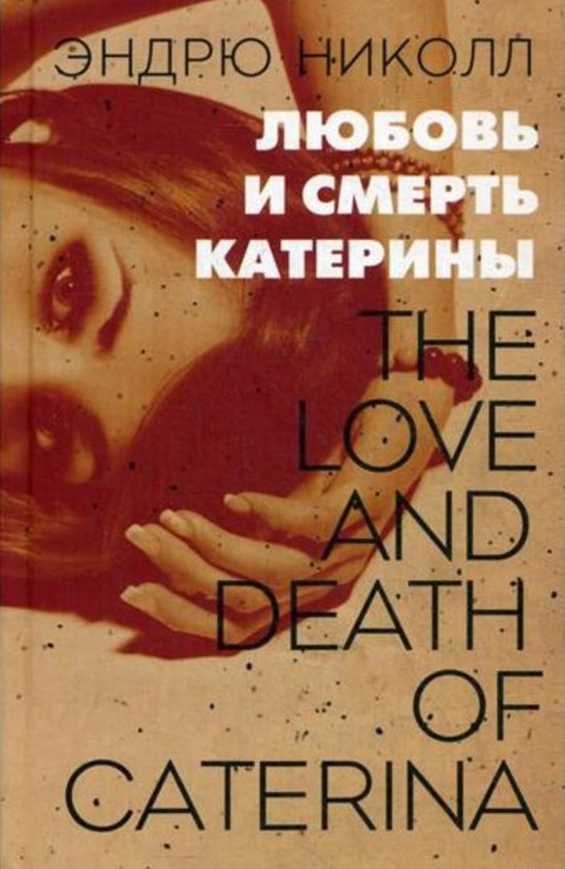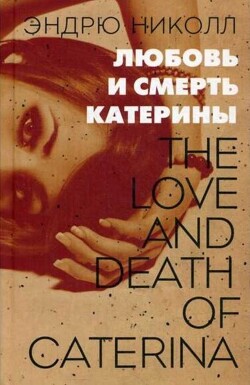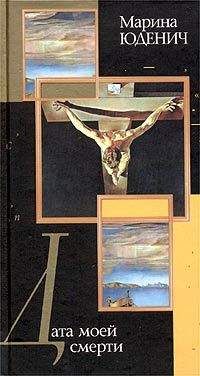на это, поскольку жизнь так безгранично удивительна в своих проявлениях, именно доктор Кохрейн сидел сейчас напротив Катерины, беспокойно вертя в руках солонку.
Они провели в маленьком ресторанчике почти четыре часа, и задолго до конца их разговора доктор Кохрейн решил, что девушка ему нравится.
Они поговорили о деревне Катерины, о ее крошечной деревне, спрятанной в самом сердце гор, и о том, какой там чистый, прозрачный воздух. Она рассказала, что скучает по звездам, по длинному, размазанному по небу хвосту Млечного Пути, но утешает себя тем, что одна и та же луна по ночам светит в окошко ей и ее маме.
Доктор Кохрейн рассказывал о своем предке Адмирале, историю, старую как мир, но Катерина раньше не слышала ее, поэтому ее интерес был неподдельным — по крайней мере какое-то время.
Потом они поговорили о еде, о книгах — в особенности о книгах сеньора Л.Э. Вальдеса, — но дольше всего они говорили о любви. О любви вообще и любви в частности.
Он сказал:
— Я во всем виню себя. Я же ваш учитель! Мне надо было вмешаться — я мог бы предотвратить это безумие.
— Зачем? Ведь я сама этого хочу. Он — все, чего я хочу.
— Дорогая, я верю вам. Конечно, верю. Сеньор Вальдес — завидный жених, и уж простите старика за откровенность, но многие, очень многие женщины пытались добиться того, что вы сделали играючи. Поверьте мне, заставить сеньора Вальдеса почувствовать любовь — достижение сродни великому. Я знаю. Я сам много лет пытался — я ведь любил его всем сердцем, а он и внимания на меня не обращал.
Катерина смутилась, опустила глаза и, не зная, что сказать, пробормотала:
— Мне очень жаль.
Доктор Кохрейн рассмеялся.
— Неужели по мне это так заметно? Я ведь тщательно маскируюсь всю жизнь… — Он положил руку на сгиб ее локтя. — Нет, дитя мое, я не был влюблен в него. Я любил его как отец, нет, скорее как… дядя. Тайный родственник. — Он улыбнулся. — Или как крестная мать — фея.
Катерина тоже улыбнулась. Она почувствовала, что доктор разрешил ей улыбаться, что теперь он не обидится, поскольку знает, что она улыбается над его словами, а не над ним самим. С доктором Кохрейном Катерина чувствовала себя удивительно непринужденно — а с Лучано никогда не могла полностью раскрепоститься. С ним ее не покидало ощущение опасности: будто ее заперли в клетку с тигром — с очень красивым, умным и сильным, но все равно хищником, агрессивным и непредсказуемым. Не так-то просто любить тигра.
— Да, мужчинам вроде меня живется нелегко, — продолжал доктор Кохрейн, — нас осуждают.
— Я понимаю.
— Но с отцом Чиано мы дружили. — Доктор Кохрейн опять испугался, что Катерина может его неправильно понять, и быстро поправился: — Вы понимаете, не в том смысле. Просто дружили, и все. Он был хорошим человеком. Добрым. Верным другом.
— А что с ним произошло?
— Никто не знает наверняка, милочка, — сказал доктор Кохрейн, что было отчасти правдой. — В те дни люди попросту исчезали. Они и сейчас исчезают, конечно, но по другим причинам. Или по тем же самым. Полагаю, на свете мало что меняется, кроме людей, которые исчезают, да и они более или менее одинаковы. Неважно, я просто хотел сказать, что отец Чиано был хорошим человеком. Смелым. Он и вырастил Чиано таким замечательным.
— Но как же он мог это сделать, если его рядом не было?
— Расскажите мне о своем отце, милочка.
— Он тоже умер.
— А разве это не изменило вашу жизнь?
Катерина кивнула. Она поняла, что доктор прав.
— Дитя мое, нас изменяет не только то, что окружает нас, но и то, чего мы лишены. Человек, который потерял зрение в зрелом возрасте, не похож на слепца от рождения. Они видят мир по-разному. — Доктор Кохрейн подлил себе вина. — Вы так молоды, — сказал он. — Как часто вам приходилось влюбляться?
— До этого раза — никогда.
— А после?
— Никогда в жизни! — горячо воскликнула шокированная Катерина.
— Как вы можете быть так уверены в этом? Неужели вы хотите копировать жизнь с несчастной Софии? Сорок лет без новой любви — это страшно! Жизнь, выброшенная на ветер.
— А вы? — спросила его Катерина прямо. — Как часто вы любили, доктор Кохрейн?
— О, я влюбляюсь буквально каждый день. И каждый день мое бедное сердце готово разбиться. Но я не возражаю — такова цена жизни, настоящей жизни. Цена, которую бедный Лучано Эрнандо Вальдес отказывается платить.
— Раньше отказывался.
— Да, раньше, — вежливо согласился доктор Кохрейн. — Но я счастлив, что мне есть за что платить, я готов платить в два раза больше за один лишь кабесео, даже если мне не суждено танцевать.
Доктор Кохрейн продолжал говорить. Он любил поговорить, а бренди еще больше развязал ему язык.
Снаружи ресторана сгущалась темнота. Тени постепенно наполнили улицы, поглотили дома, наползли на стены, а оранжевые фонари затмили пронзительным светом свет дружелюбных звезд и, вместо того чтобы рассеять темноту, еще более подчеркнули ее. Катерина чувствовала это.
Доктор Кохрейн продолжал разглагольствовать, и Катерина поддакивала ему, улыбаясь, а сама глядела за его плечо на улицу, заполняя голову другими историями, которые нашептывали ей тротуары и камни мостовых, — способность, которую сеньор Вальдес давно утратил. Она бросала один взгляд в сторону темной аллеи и видела, как в нескольких кварталах от них молодой человек ворует ампулы морфия из кареты «скорой помощи», чтобы дать отцу умереть достойно. Она видела, как молодая прекрасная женщина выходит из роскошного особняка на вершине холма, садится в новую роскошную машину и едет вниз, в город. Как она аккуратно запирает машину, бросает ключи на колени старику-нищему и уходит прочь.
— Нет, я виню только себя. Может быть, если бы София повела себя тогда иначе… Если бы она была действительно жесткой, бесчеловечной, какой притворяется, если бы забыла мужа вместо того, чтобы соорудить ему храм, если б снова вышла замуж, тогда… Но она знала, что я все видел. Я сам виноват. Во всем виноват.
Доктор Кохрейн на минуту замолчал, потом мокро всхлипнул и сказал:
— Что-то мне нехорошо. Пора домой.
* * *
Катерина и доктор Кохрейн вышли из ресторана под руку — как и вошли. Когда они встретились в саду, доктор снял шляпу, поклонился и предложил Катерине руку с характерной для него старомодной учтивостью. Теперь же старик тяжело повис на руке Катерины: больная нога к вечеру ныла все больше, а бренди лишил его устойчивости — трость неровно стучала по камням мостовой.
— Сам-то я не франкмасон, — громогласно