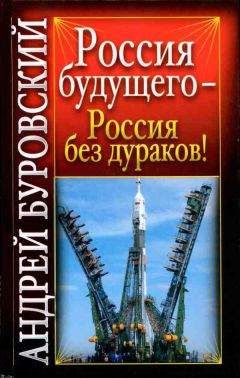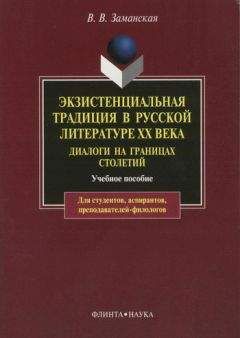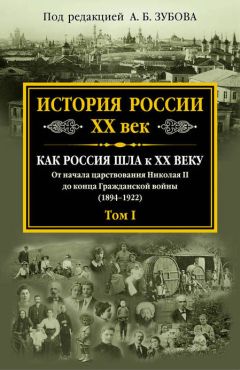Еще показательнее, однако, то, что произошло с русским «верхним классом» в промежутке между Петром, попытавшимся возродить служебную элиту времен Грозного, и Екатериной. Яростный штурм, которому подвергла государственную власть эта новоиспеченная служебная элита на протяжении полувека, когда, как доносил своему правительству английский посланник Финч, кирасирский полк, проезжающий по Гайд-парку, производит больше шума, нежели государственный переворот в России, представляет сюжет скорее для авантюрного романа, чем для политической истории. Вот лишь один его эпизод.
Императрица Анна Иоанновна умерла 17 октября 1740 г. и, согласно легенде, последние слова, которые услышал от неё регент при наследнике престола малолетнем Иване Антоновиче герцог Би- рон, были «не бойся». Так же, как для вельмож, присутствовавших при последнем вздохе Екатерины II, означать это, естественно, должно было «не бойся народа». И так же, как в 1796 году, опасность поджидала, конечно, с другой стороны. И трех недель не прошло, как фельдмаршал Миних с ротой гренадер сверг Бирона и провозгласил регентшей мать наследника Анну Леопольдовну. Но не успел Миних
утвердить новый режим, как был, в свою очередь, свергнут лейб- гвардейцами, подученными канцлером Остерманом. Увы, и тот оказался калифом на час. 25 ноября 1741 г. гренадеры взяли реванш, посадив на престол Елизавету Петровну (наследник умер в тюрьме). И всё это на протяжении одного года!
В этом безумии была, однако, система. Ибо в отличие от стамбульских янычар, петербургские гренадеры или лейб-гвардейцы, как и вся стоявшая за ними петровская служебная элита, ставили себе целью вовсе не воцарение очередного «султана», но отмену обязательной службы. Другими словами, возвращения утраченного в очередной раз при Петре аристократического статуса. Они не успокоились, покуда не добились своего. И едва додумалась до истинной причины всей этой необыкновенной политической сумятицы единственная среди плеяды русских императриц политически грамотная женщина София Ангальт-Цербстская, больше известная под именем Екатерины Великой, как страсти тотчас улеглись и вчерашний произвол сменился стабильностью.
А попытка Павла возродить его после смерти матери стоила ему жизни. Словно бы услышала, наконец, Россия голос Крижанича, завещавшего ей из своей тобольской ссылки, что «всеконечная область [т.е. неограниченная власть] есть супротивна Божьему урожен- ному законоставию». Или формулу Монтескье, которая легла в основу знаменитого екатерининского Наказа: «Где нет аристократии, там нет и монархи^. Там деспот».
Так или иначе, драма аристократии в России на наших глазах оказалась неожиданным — и мощным — подтверждением европейского происхождения российской государственности. Не успевал еще закончиться очередной приступ «людодерства», как процесс аристократизации вчерашней служебной элиты неизменно стартовал заново. На месте только что демонтированной аристократии вырастала новая. И самодержавная государственность ничего не могла с этим поделать.
Другой вопрос, что она исказила и мистифицировала этот процесс, как и всё, к чему прикасалась. Ибо в отличие от абсолютистских монархий, екатерининская аристократия, в очередной раз вое-ставшая из праха обязательной службы, была рабовладельческой. И потому зависимой от самодержавной власти. Она не поддержала попытку декабристов избавить страну от самодержавия и крепостничества. Она не воспользовалась Великой Реформой, чтобы радикально ограничить самодержавие. Связав с ним свою судьбу, вместе с ним она и погибла.
Глава седьмая Язык, на котором мы спорим
седьмой. Постскриптум
Пришедшая ей на смену совет-
екая элита была, само собою, опять служебной, как и послепетровская. И так же попыталась аристократизироваться, как и при императрицах XVIII века. Ясное дело, нашелся и на нее свой Павел. Только на этот раз «всеконечная область» продолжалась не четыре года, а тридцать. Последовательно освободившись от контроля советского аналога Земских Соборов — Центрального Комитета партии — и аналога Боярской думы — Политбюро, Сталин истребил нарождавшуюся «комиссарскую» аристократию в зародыше. С этой точки зрения, террор 1937-го и был, собственно, очередной попыткой положить конец процессу аристократизации имперской элиты. Нужно ли говорить, что закончилась она столь же бесславно, как павловская?
Постсталинская служебная элита, как и послепетровская, тотчас и начала всетотжетрадиционный процесс аристократизации. Режим Брежнева сего политикой стабильности кадров и «номенклатурой» был решающим шагом в этом направлении. Короче, и в советском своем инобытии самодержавная государственность продолжала воспроизводить исконные российские образцы формирования элиты. Можно сказать, что политическое лицо самодержавной России определялось повторяющимся процессом аристократизации, его темпом, его формой, его историческими катастрофами и ренес- сансами. Процесс и тут пульсировал, то ужесточаясь, то расслабляясь, то «отклоняясь» от европейских образцов, то возвращаясь к ним. Но продолжим наше сопоставление.
_ Гпава седьмая
I Р О О О О Язык, на котором мы спорим
Был ли страх и «рутинный террор» доминирующим принципом самодержавной государственности? Как и во всем другом, иногда был, иногда не был. И не только масштабы, но и сама функция террора видоизменялась — синхронно с ужесточением или расслаблением самодержавия. Если в жестких своих фазах становилось оно террористическим по преимуществу, то в расслабленных, уподобляясь абсолютным монархиям Европы, употребляло террор лишь по отношению к тем, чье поведение могло рассматриваться как угроза режиму.
Первым из русских интеллектуалов заметил эту странную пульсацию террора Гавриил Державин в знаменитой оде «К Фелице».
Там можно пошептать в беседах И, казни не боясь, в обедах За здравие царей не пить, Там с именем Фелицы можно В строке описку поскоблить, Или портрет неосторожно Ее на землю уронить. Там свадеб шутовских не парят, В ледовых банях их не жарят, · Не щелкают в усы вельмож; Князья наседками не клохчут, Любимцы вьявь им не хохочут И сажей не марают рож.
Десятилетие спустя озорное державинское описание попытался строже сформулировать Николай Карамзин: «Екатерина очистила самодержавие от примесов тиранства». И уже в XX веке, анализируя екатерининское «расслабление», Г.В. Плеханов пришел к выводу: «Кто не становился матушке-государыне поперек дороги, кто не мешался в дела, до него не принадлежавшие, тот чувствовал себя спокойным».47 Проще говоря, в расслабленных фазах самодержавия судьба человека в России зависела от его поведения. В жестких, однако, не зависела.
1/1 нет нам решительно никакой нужды обращаться к опричному террору Грозного или к ужасам 37-го, чтобы это показать. Ибо «при- месы тиранства», от которых Екатерина якобы очистила самодержавие, тотчас же и явились, как мы уже слышали, на сцену со смертью матушки-государыни. Да какого еще тиранства!
Подражая Фридриху Великому, Павел будет вставать в 3 часа утра—и странное впечатление станет производить ночной чиновный Петербург с пылающими в окнах всех учреждений лампионами и трепещущими за своими столами чиновниками — а вдруг вызовет государь? И зачем вызовет? Не в Сибирь ли прямо из кабинета, не в казематли?
А если не вызвали ночью, значит утром рано пожалуйте на плац- парад. А там уже было все сразу — и канцелярия, и аудиенц-зал, и суд — и расправа. Там выслушивались все доносы, там было решение судеб. И, как напишет историк, «сюда, в это чистилище, всякое утро должен являться каждый, от поручика до генерала, от столоначальника до вице-канцлера. И всякий приходит с замиранием сердца, не зная, что его ожидает: внезапное повышение или ссылка в Сибирь, постыдное исключение из службы или производство в следующий чин. Шансов на скверное несравненно больше. Неверный шаг, минута невнимания или даже без всякой причины, раз маленькое подозрение промелькнет в голове государя, человек погиб. Офицеры приходят в сопровождении слуг или вестовых, несущих чемоданы, так как всегда стоящие наготове кибитки тут же на месте собирают тех, кого одно слово императора отправило в крепость или в ссылку, а по уставу мундиры настолько узки, что нет возможности положить в карман даже малую толику денег».48
Чтобы не создалось у читателя впечатления, что все эти ужасы были преувеличены врагами императора, пытавшимися задним чис-
Г.В. Плеханов. Собр. соч., М., 1925, т. 21, с. з6~37-
К.Ф. Валишевский. Цит. соч., с. 158. (выделено мною.— Д.Я.).
лом оправдать цареубийство, вот несколько свидетельств ближайших его сотрудников, написанных в разгар «рутинного террора». Ви- це-канцлер Виктор Кочубей, третье лицо в государстве, пишет в апреле 1799-го послу в Лондоне Семену Воронцову — дипломатической, конечно, почтой: «Тот страх, в каком мы здесь пребываем, нельзя описать. Все дрожат... Доносы, верные или ложные, всегда выслушиваются. Крепости переполнены жертвами. Черная меланхолия охватила всех... Все мучаются самым невероятным образом».49 В октябре того же года Кочубей был заменен Никитой Паниным, который, в свою очередь, писал в Лондон: «В России нет никого, в буквальном смысле этого слова, кто был бы избавлен от притеснений и несправедливостей. Тирания достигла своего апогея».50