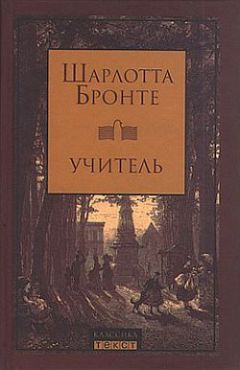Милая моя, мой хохлик с фонариком, моя глазастая синяя пролеска, птица- синица, добрый огонек в метель, пушистый мой заяц — дайте уж мне сказать то, что не смог сказать в глаза. Ваши голубые руки — целую их. Не могу без них».
Но продолжим фразу Андрея в романе: «Четыре письма, и ни на один нет ответа». 8 февраля 1960 года Короткевич пишет Гальперину из Орши: «Ф-фу-у! Как гора с плеч свалилась. Сделал, наконец-то, большую часть работы и только что вернулся из Минска, где бегал по редакциям (. ). Пьесу отдал Макаен- ку на прочтение, ему же один киносценарий (. ). Второй Галка (жена друга Короткевича — Валентина Кравца. — Д. М.) отнесет на тайный конкурс, (...). Кроме того отдал в «Полымя» поэмку и два рассказа, в «Маладосць» кое-какие стихи, на телевидение кое-какие стихи и т. д. (...). И все это, кажется, зря. За месяц — ни слова от нее. Печально. Но что же сделаешь. Не прикажешь ведь» (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 15. Л. 1—2).
В феврале Короткевич вернулся в Москву. Помогло ли Нине Молевой лечение за границей? В романе об этом сообщается следующее: «Ничего не изменилось. Операцию посчитали невозможной». Что происходило в реальной жизни?
29 февраля 1960 года Владимир Семенович писал Янке Брылю из Москвы: «На каникулах я умирал каждый день: она была в Вене, в клинике. И там отказались. А состояние все ухудшается. И вот красивый, полный сил человек, человек большой души и мужества, одна из самых умных женщин, каких я встречал, гибнет. Как последнее — решили сделать операцию тут, — какие-то сверхпрочные магниты. И шансов на успех — один из сотни. (...) Взять бы ее силой из этого вранья, из этого большого, равнодушного к человеческой песчинке города.
Нельзя. Врачи контролируют. И так несколько месяцев. Там хирургический скальпель. И так, как сейчас, я не могу видеть ее когда захочу, хоть бы чувствовать дыхание за стеной, — да, я не могу стоять около клиники, спрашивать о ней, носить ей цветы. Это будет другой все делать. Просто так, как спокойный безразличный муж. Без особой боли сердечной».
После возвращения ее из-за границы отношения между влюбленными существенно изменились. «Ты знаешь, я сделал все что мог, — говорил в романе Андрей Янису. — И вот я пять раз встречался с ней, и она каждый раз избегала разговора об этом... Трижды назначала свидание и обманывала, не приходила.
А я, кажется, совсем потерял гордость. Назначает на пять. Я жду до половины шестого, потом говорю себе, что перепутал, наверное, и свидание в шесть. Жду до половины седьмого и даю себя уговроить, что, может, в семь. (...) И так было потом все три недели». А потом «он вдруг понял, что она никогда не будет с ним. И одновременно убежать от нее он не может, а без нее нет жизни. Значит, нечего сопротивляться. Жизнь осточертела, жизнь не дала счастья — зачем тогда все».
Гринкевич задумался о самоубийстве. Но в последний момент ему в руки попалось письмо от друга из Минска Якуба Каптура: «...Мне тяжело говорить об этом... Считай ты меня ворчливым дядькой, считай даже пошляком, но, слушая твои слова, я невольно думал: сколько хороших, милых, чудесных, юных, умных существ мечтает где-то встретиться с таким человеком, как ты, дорогой мой чудак, поэт, честный человек!» Именно письмо, а также переживания друга Яниса спасли Гринкевича от поспешного поступка.
Известно, что под псевдонимом Якуб Каптур скрывался Янка Брыль. Более того, 8 марта он написал Короткевичу письмо, которое с небольшими сокращениями было вставлено в роман.
16 марта 1960 года Владимир Семенович опять писал Брылю в Минск: «Понимаете, с остальными мне грустно и нудно. Я и пытался клин клином вышибить, — не получается. Пусто. Всегда те самые, — с небольшими вариациями, — приемы флирта и темы для разговоров. Я прошел то время, когда достаточно целоваться в парке и лежать рядом (хотя, конечно, это хорошие вещи). Мне нужен друг, на которого я надеялся бы как на самого себя и даже больше, друг умный, друг, который может все понять и не будет требовать вожжей. Который верит мне до конца и которому я сам верю. (...)
Не скажу о зрелых женщинах, но из молодых эта единственная, с которой мне легко. Нам никогда не бывает грустно, когда мы вместе, у нас всегда есть что сказать друг другу. Нам хорошо даже молчать, думая об одном».
Между тем игра со стороны Ирины Горевой продолжалась. «Или будьте с ним, или перестаньте морочить человеку голову», — говорил ей в романе Вай- вадс. В реальности 20 апреля 1960 года Короткевич писал Гальперину: «В Москве тихие, ясные и прохладные вечера. И очень мне в этой Москве грустно на сердце. Потому что не ладится, в общем существование то. С Ниной чепуха и заваруха. И, кажется, я скоро возьму и женюсь на просвирне или на вдове церковного старосты (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 15. Л. 4 об.).
Как дальше разворачивались события в «Леанідах...»? «В один из первых дней мая, когда даже Чистые Пруды расцвели зеленым цветом жизни, когда даже мертвые доски редких деревянных заборов укрылись после дождя бархатным налетом и когда он сказал ей: «да или нет», — она ответила с ледяными глазами:
— Определите сначала свой путь, а потом скажите мне. (...)
—Довольно играть в прятки. Надо, чтобы третий знал все. Останетесь вы с ним либо нет — пусть решают эти дни. Ведь я больше не могу». В тот вечер на разговор к Гринкевичу пришел Михаил, муж Горевой.
«Уначы плыве папяросны дым, //Я сам-насам з кяліхам віна. // Ўмяне раз- мова мужчынская з тым, // Каго кахае яна», — написал Короткевич в поэме «Плошча Маякоўскага». Встреча, разумеется, окончилась ничем.
«Прошел и почти весь май, как проходит все хорошее в мире. Пару раз Андрей ездил в Минск. В его отношениях с Ириной ничего не изменилось. Теперь она не мучила его, но всячески избегала. (...) Это становилось нестерпимым. Андрей уже не мог ни есть, ни спать. Хуже всего, что он понимал причину этого, но не мог не любить. Разум не имел никакого отношения ко всему, что с ним, Андреем, происходило», — так рассказывается о событиях в «Леанідах...».
«...В конце мая, — продолжает автор романа,—большая группа парней и девчат вместе с Горевой и Галиной Ивановной (завучем литературных курсов. — Д. М.) поехала на несколько дней в Ленинград. Это было что-то вроде прощального путешествия. В июне большинство из них должно было навсегда разъехаться по своим городам, оставив Москву и друг друга. Поэтому даже в веселье ощущалась какая-то грусть. И только Гринкевич ехал на север радостный, как будто в свадебное путешествие. Быть с Ириной в одном вагоне, жить в одной гостинице, целую неделю быть с ней... (...) Нет, это было таким нестерпимым счастьем, что кружилась голова... Это был город — мечта. (...) Этот город был похожий на те города, которые снятся в самых счастливых снах детства, о которых потом плачешь, не имея возможности попасть в потерянный рай. (. ). И он (...) знал: все эти дни она отдаст только ему, только для него. Все. Целиком. В этом была какая-то горькая гордость, которая давала ему силы жить. Ирина действительно все отдавала ему: каждый взгляд, каждое движение, каждое слово. (...) ...Десять дней казались вечностью. Десять дней прошли. За два дня до срока она получила вызов из Москвы».
Вскоре после путешествия в Ленинград произошла решающая встреча. «И тут она повернула к нему лицо, какое-то такое незнакомое лицо, что у Андрея все оборвалось внутри. Что в нем было, в этом чужом лице? Конечно, оно было чуть более уставшим, чем всегда. Но главное было не это, не пустые глаза, даже не пересохшие губы. Главным было выражение. Было на этом лице выражение такого пренебрежительного презрения, что во сто крат хуже, чем сама ненависть. (...) Последующее утонуло в тумане. Времени не было. Он не знал, часы прошли или дни. Как будто у пьяного, в глазах остались только редкие обрывки событий. А между тем, он не пил ни капли. Вряд ли он и ел что-то все эти дни. (...) Встретил на улице соседа по общежитию. Тот говорил что-то о том, что его ищут три дня... (...) Значит, три дня не ночевал там. А где? Этого он не помнил». Потом: «Дома, перед тем как лечь спать, он уничтожил стихотворения, посвященные Ирине, уничтожил все бумаги, где хотя бы упоминалось ее имя. Он валился с ног от усталости, но не мог спать, пока в комнате оставались свидетели его слабости и его позора».
А вот свидетельства самого писателя. 28 июня 1960 года Владимир Короткевич писал Юрию Гальперину: «Предстоит лето работы. Кончена Москва. А жаль немного. И хуже всего, что (...) оставил в Москве едва ли не самого дорогого мне человека. Так ничего у меня и не вышло. И ведь знаю, что не такой уж добрый она человек, что, может, и жалеть не стоит, а все равно так скверно на душе, что дальше некуда. Что называется, «не везет». Напоследок из-за всей этой неурядицы, из-за огорчений и предстоящей разлуки неделю беспробудно трескали с ребятами винище. Уж мы его жрали, лакали, уничтожали. И все равно много осталось этой пакости в мире.