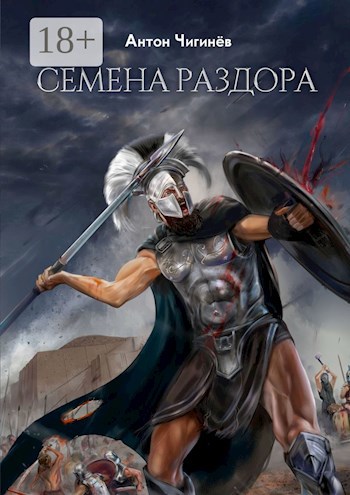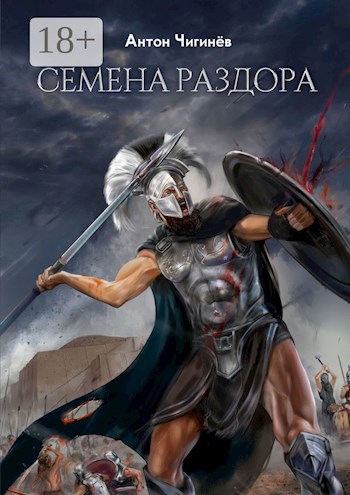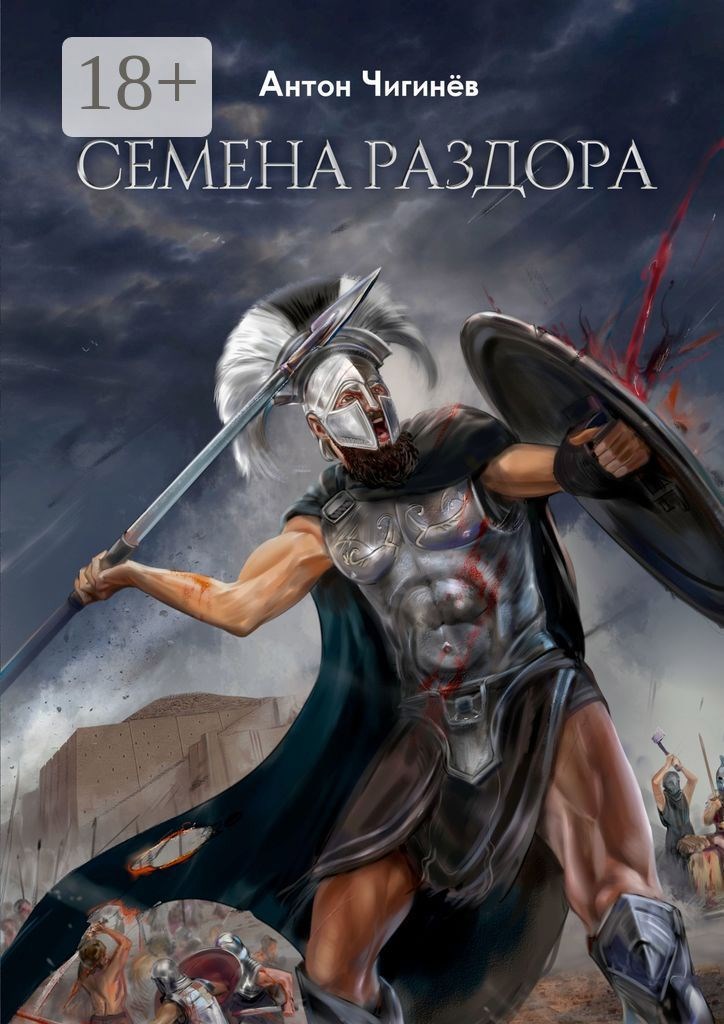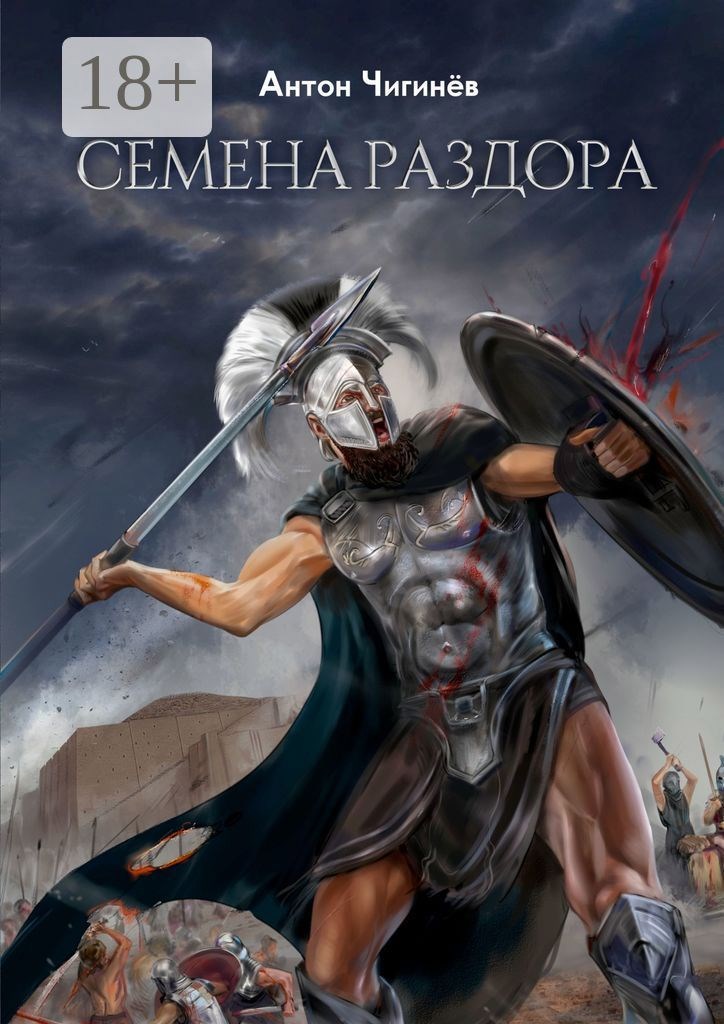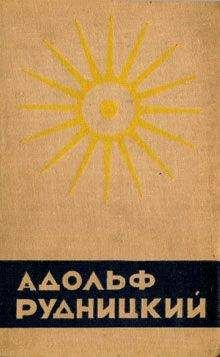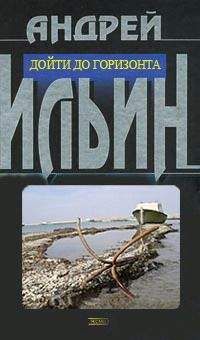Им не препятствовали, но расступались нарочито неторопливо. Рабу понятно, что задержать метателя не удастся, он уже давно затерялся в толпе – ну и ладно. Энекл молил Эйленоса-заступника сделать так, чтобы ушам царя достало ума не прокладывать себе дорогу мечами. Когда толпа в таком озлоблении, даже пара слов может превратить мирных обывателей в обезумевших чудовищ, а уж если они увидят кровь… Над площадью нависала тяжёлая знойная духота ‒ или это стало душно от сгустившейся злобы и ненависти?
По привычке, приобретённой за без малого пятнадцать лет на чужбине, Энекл зажмурился, представляя себе эферскую Технетриму и небольшой, но очень уютный белый домик с красной черепичной крышей, окружённый сикоморами. Обычно воспоминание об отчем доме хоть как-то примиряло с окружающей действительностью, но сейчас не помогло и это. Озлобленные смуглые люди напирают на стоящих в оцеплении гоплитов, удушающая жара окутывает липким паучьим коконом, чужие, неэйнемские запахи раздражают обоняние, а лающая варварская речь – слух. Всё показалось даже более опостылевшим, чем обычно, хотя Энекл и не верил, что такое возможно. Определённо, когда это закончится, нужно будет напиться. Меньше трёх кувшинов после такого дня просто оскорбили бы богов, изрядно постаравшихся, чтобы сделать его насколько возможно мерзким.
– Нан-Шадур-иллан, Нан-Шадур-иллан, Нан-Шадур-иллан! – ритмичное скандирование зародилось где-то на краю площади и волнами разбежалось по толпе. Чуть только стихло, визгливый голос надрывно завыл: «Хуваршиим!», и новый клич был тут же с готовностью подхвачен сотней глоток. Энекл знал это слово, оно значило: «на свободу». Толпа волновалась и бурлила, тут и там над головами взлетали кулаки, самые смелые приближались вплотную к оцеплению, выкрикивая бранные слова и делая угрожающие жесты. «Выровнять пики! Тупым концом!» – проорал Энекл, и плотные ряды гоплитов вмиг ощетинись лесом длинных копейных древков, – «Замах! Удар! Ещё! Ещё! Ещё!» – бойцы слаженно нанесли четыре удара в воздух. Более чем наглядно. Крики и шум не стали тише, но люди сдали назад. Теперь толпу отделяли от оцепления несколько локтей
Энекл оглянулся на возвышающийся посреди площади помост, отделённый от людского моря двумя рядами гоплитов и отрядом царских застрельщиков. С особым удовольствием он задержал взгляд на лице Эн-Нитаниша. Царский любимец был замечательно бледен и, кажется, даже мелко дрожал всем телом. А ведь как пылко требовал расправы над врагами повелителя! Вспомнив, что Эн-Нитаниш сам вызвался командовать казнью, Энекл злорадно улыбнулся. Случается, что лесть не доводит до добра ‒ жаль, что так редко.
Возле Эн-Нитаниша, с хмурым лицом прохаживался по помосту начальник застрельщиков Бадгу, смуглый, неразговорчивый человек, неизменно закутанный в тёмный бурнус. Этот, хоть и варвар, держится как мужчина: лицо бесстрастное, движения спокойные и уверенные, рука небрежно лежит на рукояти меча. Энекл не сомневался, что пращники уже размещены на крышах, что их оружие в прекрасном состоянии, сумки полны пуль, и что каждый из них в точности знает, что делать. Бадгу имел совершенно законный повод остаться со своими людьми, но предпочёл быть там, где его бойцам грозит наибольшая опасность.
Поймав взгляд, Бадгу покосился на Эн-Нитаниша и выразительно повёл ладонью. Энекл кивнул в ответ. Бывалым воинам всё было ясно без слов: от начальства сегодня толку не будет – как обычно. Бедой царя Нахарабалазара было не то, что он окружал себя любимцами и наложницами, беда в том, что иные из них мнили себя государственными деятелями. Эн-Нитаниш ещё из лучших ‒ хотя бы не мешает. Наду-Кур, бывшый певец-евнух, пожалованный должностью Старшего охранителя царских дорог, полей и каналов, едва не был разбит войском мятежных рабов, вооружённых мотыгами и вилами. Говорили, что бывший в том сражении начальник конницы – прекрасный наездник – нарочно упал с лошади и повредил ногу, лишь бы присутствовать на праздновании победы Наду-Кура.
На дальнем конце площади зародилось движение. Шум усилился, меж крайних домов появился отряд, сопровождавший приговорённого, и толпа разразилась гневными криками. Колонну возглавляли высокие, полуголые, с ног до головы выкрашенные красной и белой краской воины в шлемах из длиннорогих козлиных черепов. Уртагиры – обитатели дальней пустыни и вечное пугало для прочих народов Мидонии. Уртагирские обычаи вызывали ужас и отвращение, рассказывали, что они отдают душу демонам пустыни в обмен на силу и свирепость, что они не чувствуют ни боли, ни страха, что они поедают печень ещё живых врагов и пьют человеческую кровь. Обыватели Нинурты испуганно шарахнулись перед теми, чьим именем их пугали в детстве.
За уртагирами следовал отряд эйнемских гоплитов, окруживший запряжённую волами повозку приговорённого. Нан-Шадур – бывший иллан, то есть верховный жрец, Нинурты и всей Мидонии, знатнейший вельможа, некогда имевший пахотной земли размером с Эйнемиду, ныне же просто измученный и приговорённый старик. Его казнь венчала длительное разоблачение заговора и череду расправ над первыми людьми царства. Кого-то и впрямь казнили за дело, но были и те, кого сгубили зависть, ненависть и людская алчность. Жители Нинурты считали, что таков был и Нан-Шадур. При виде своего кумира, толпа разразилась воплями, а Энекл почувствовал невольное уважение, глядя как стойко держится истерзанный старец, своими глазами видевший казнь всех родных, включая новорождённого правнука. За повозкой шли писцы с табличками из особой жёлтой глины для царских указов, следом – пятеро облачённых в зелёные одежды палачей со своим жутким инструментом, а замыкал шествие отряд царской стражи в конических шлемах с позолоченными личинами – сплошь знатные юноши. Их присутствие символизировало одобрение казни мидонийской знатью.
Процессия беспрепятственно пересекла площадь, и гоплиты Энекла расступились, пропуская её к помосту. Последним прошёл высокий стройный эйнем в посеребрённых доспехах, тёмно-голубом хитоне и белом военном плаще, на его шлеме покачвался пышный белый гребень, а с щита грозно зыркал пикирующий ястреб.
– Привет тебе, Энекл, сын Гидаспа! – сказал он звонким, молодым голосом. – Ну как у вас тут дела?
– И тебе привет, Диоклет, сын Эрептолема. Дела на половину Цсереха, но скоро, похоже, потянет на две трети.
Энекл имел в виду печально известный поход Нахарахаддона, отца нынешнего царя, против жителей Цсереха, чья мерзкая болотистая земля скрывала несметные сокровища: железную руду и торф, и тысячи редчайших растений, используемых для приготовления приправ, смесей для курения и зелий. Tот поход мидонийская армия провела по пояс в зловонной зелёно-коричневой булькающей жиже, постоянно теряя людей то от отравленных стрел цсерехцев, то от нападений диких зверей, то от болезней, но все эти тяготы меркли по сравнению с главной битвой, каковую Энекл считал самым страшным воспоминанием своей богатой на события жизни. Фаланга стояла в болотистой низине, вода порой доходила