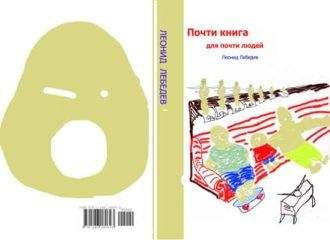друга с места на место, но их запоздалое рвение вызывает у хозяев не дове-
рие, а усмешку. Москва ведет дело к тому, чтобы ее наместниками в Чехосло-
вакии стали надежные для нее люди, доказавшие готовность жить интере-
сами Кремля, физически находясь в Праге. Из прежней руководящей коман-
ды уверенными можно быть только в Василе Биляке и Алоисе Индре; оба го-
товые первые лица, но ни в одном слое населения, даже среди партийцев, у
них нет поддержки.
Биляк знает, что в Москве он более «свой» человек, нежели в Праге или
Братиславе. И рукопись своих воспоминаний «Этапы моей жизни» (745 стра-
ниц) член Президиума, секретарь ЦК КПЧ переправляет через советское по-
сольство в ЦК КПСС. Как следует из партийных документов, в рукописи «со-
держатся сугубо доверительные сведения, В.Биляк просил советского посла
направить ее на хранение в СССР и тем самым исключить возможность ис-
пользования материала «нежелательными лицами». Учитывая ценность ру-
кописи, полагали бы целесообразным перевести ее на русский язык за счет
средств партбюджета силами специально допущенных к такой работе пере-
водчиков. После возможного ознакомления с рукописью ограниченного кру-
га лиц считаем необходимым направить ее на хранение в архив ЦК КПСС». 2
Cоветским и чехословацким теоретикам ничего не остается, кроме как
убеждать массы, что новые проблемы народов Восточной Европы – след-
ствие Пражской весны; в их лексике понятие «суверенитет» трансформиру-
ется в «ограниченный суверенитет», хотя даже самые подкованные не зна-
ют, как это понимать, что из этого следует. Руководство по-прежнему на что-
то надеется; по словам Смрковского, нужно, конечно, выполнять обязатель-
ства перед союзниками, но дела своей страны должны решать сами граж-
дане, и если кто-то во власти передаст другим право устанавливать, как
народу жить, он распорядится тем, что ему не принадлежит.
При Гусаке, сменившем Дубчека в апреле 1969 года, к власти приходят
бойкие вчерашние неудачники. Никто не знает их заслуг, кроме единствен-
ной, перекрывающей все их недостатки: оккупацию они называют «братской
помощью». Ничего другого от них не требовалось. К ним переходят кабине-
ты изгнанных из партии предшественников, они продолжают чистку пар-
тийных рядов. Выкорчевывают первым делом тех, кого называли совестью
нации. Наконец-то Кремлю удается расправляться с реформаторами руками
самих чехов и словаков. Это их, прирученных властью, Иржи Ганзелка срав-
нивал с велосипедистами: вниз они давят ногами, а вверх горбатятся и сги-
бают спины.
Перед тем, как вызывать на партийный суд, с Иржи Ганзелкой десять
дней беседовали в кабинетах, но заставить подписать протокол не смогли.
Исключенного из партии, его потом допрашивали следователи госбезопас-
ности. Допрашивали люди другого поколения, иногда те самые молодые лю-
ди, которые узнавали мир по книгам Ганзелки и Зикмунда. «Но арестован-
ным на длительный срок я все-таки не был», – будет вспоминать Ганзелка с
облегчением 3.
В начале 1970 года из Готвальдова в Прагу вызвали Мирослава Зикмун-
да. «Я приехал в ЦК. За столом в приемной девушка лет двадцати. “Кто там?”
– спросил я, указывая на дверь, за которой работала комиссия. “Какой-то
Гофмейстер”, – отвечает юное создание. “Вы что, не знаете, кто это ?” – удив-
ляюсь я. Мне казалось, в стране нет человека, даже молодого, кто бы не слы-
шал имя Адольфа Гофмейстера, писателя и художника, старейшего члена
партии, одно время чехословацкого посла во Франции. Не успела она отве-
тить, как открылась дверь и появился Гофмейстер. На нем лица не было, у
виска набухли вены, видно было, как пульсирует кровь. “Ну что, Адя?” – я об-
нял его. “Выбросили! Теперь ты можешь обращаться ко мне “пан Гофмей-
стер…”» Через три года Адольф Гофмейстер умер.
В большом кабинете Зикмунд видит за столом четыре или пять чело-
век. Знает только одного, секретаря Союза писателей, он печатался под
псевдонимом Павел Бояр. До этого дня он обращался к Зикмунду с уменьши-
тельно-ласковым сокращением его имени, говорил с подчеркнутым пиете-
том. А тут сухо: «Товарищ Зикмунд, садитесь…» Cтарался не смотреть Зик-
мунду в глаза. «Я знаю тебя, – сказал ему Зикмунд, – а кто за столом осталь-
ные? Ваши фамилии, имена, партийные должности. Вы будете решать мою
судьбу, но кто вы?!» Они стали называть себя. Все люди из Брно, из краевого
комитета партии, и рассматривают дела интеллигенции, живущей, подобно
Зикмунду, в Южной Моравии. Бояр говорит: «Первый вопрос: готов ли ты,
способен ли защищать линию партии?» Зикмунд спросил: «Какой партии?
Той, которая в январе 1968 года избрала Дубчека первым секретарем и в ап-
реле приняла “Программу действий”? Отказалась участвовать на встрече пя-
ти партий в Варшаве, подтвердила свою самостоятельность в Братиславе,
осудила ввод войск в ночь с 20 на 21 августа? Или другой партии, которая
признала ввод войск приглашением? Линию этой партии я должен защи-
щать? Если этих моих слов вам достаточно, я больше не буду говорить. Я не
готов иметь с этой партией что-либо общее, агой» 4.
«Агой!» – по-чешски «привет!».
Интеллектуалам их круга проблема виделась во взаимном недопони-
мании чехословацкого народа, который еще не забыл, что такое гражданское
общество, и советского народа, который никогда этого общества не знал.
Ганзелка и Зикмунд, до той поры свободные люди, у ног которых не-
давно лежал весь мир с пустынями, бушменами, слонами, индейцами, мина-
ретами, теперь были обречены двадцать лет жить, не выходя за шлагбаум,
рядом с советскими военными базами, поначалу скрытыми в чехословацких
лесах. В высшей степени корректные, они ни словом не обмолвились в пись-
мах об истинных причинах горечи и тоски, но печальная мелодия строк вы-
дает, как им дышится в наступившие времена. У меня сохранились девять
писем Иржи Ганзелки тех лет. Одно я привел в девятой главе, и долго сомне-
вался, следует ли предавать огласке остальные; они совсем личные, даже ис-
поведальные. Будь Иржи до сих пор среди нас, все бы ясно, но когда его нет,
остается единственный человек, чье мнение на этот счет для меня то же са-
мое, что решение окончательное. Мирослав Зикмунд уверил меня, что эти
письма, пусть сугубо личные, все же передают атмосферу в Чехословакии тех
удушливых лет, и Иржи было бы приятно их приобщение к документам эпо-
хи. И вот эти письма в том виде, как Иржи их отстукивал на своей пишущей
машинке с латинским шрифтом. Я надеюсь, они добавят кое-что к портрету
Иржи Ганзелки. Письма публикуются без редактуры, с сохранением лексики
и стиля, при очень небольших сокращениях строк, понятных и дорогих, ско-
рее всего, мне одному.
Письмо в Иркутск (18 июня 1973 г.)
…По твоему желанию пишу только половину из ожидаемого «жив-здоров». По-
ловину этого года я разбросил напрасно по больницам. <…> Мои болезни не являются
никаким сюрпризом. Надо было считаться с ними до начала путешествий. Раз я по-
шел на это условие, должен принимать спокойно необходимые последствия. Я уже в
прошлом году писал о трудностях с почковыми камнями, язвами в желудке на дуо-
дене (двенадцатиперстной кишке. – Л.Ш.), об операциях обеих ног, и о трудностях с
печенью. Уже несколько лет есть у меня хроническое воспаление печени, последствие
тропических заболеваний, и печенных паразитов. Но только в апреле месяце узнали в
больнице при помощи лапароскопа, что во время путешествий было у меня до деся-
ти серьезных инфекционных заболеваний пени (желтухи), которые я, конечно, не ле-
чил. Знаешь, что на пути работают, не лежат.
Вот и в первых днях этого года у меня появилась чрезвычайно большая инфек-
ционная желтуха. Три с половиной месяца я пролежал в изоляции, потом недельки
две дома, потом шесть недель в испытательном институте в Карловых Варах, сей-
час пустили домой и сказали: «лежать!» Но скажи, Ленька, разве это возможно?
Полгода гнил на кровати или близко к ней, 19 килограммов сбросил, есть и пить не
дадут по-настоящему, диета суровая, и еще говорят: ни физического, ни душевного
труда, никаких волнений, никаких неприятностей, они серьезно опасны. И ты хорошо
знаешь условия и положение. Тогда зачем я буду терять дальнейшее время в крова-