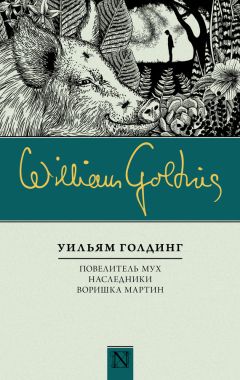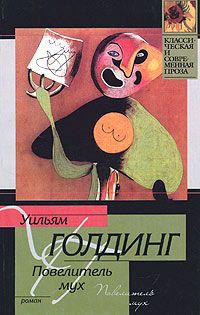– Если я не брежу, то от одежды валит пар. Это пот.
Он прислонился спиной к Гному.
– Держись, ты умный.
Белые пузыри покрыли ноги. Он поднял рубаху – пузыри обнаружились и на животе. Припухлости на лице тоже оказались пузырями.
– Я должен выжить!
Что-то яростно рванулось в памяти.
– Я выживу, даже если придется сожрать все, что найдется в этой проклятой коробке!
Он снова взглянул на ноги.
– Знаю я, что это за дрянь. Крапивница. Пищевое отравление.
Над телом поднимался дрожащий пар. Четко очерченные, мертвенно-белые пузыри вздулись так, что даже распухшие пальцы ощущали их контуры.
– Говорил же, что заболею, вот и заболел.
Он оглядел тусклым взглядом линию горизонта, но ничего там не нашел. Посмотрел на ноги и подумал, что они тонковаты для такого количества пузырей. Чувствовалось, как вода под рубахой перетекает от одного пузыря к другому.
Давление неба и воздуха распирало голову.
Мысль лепилась как скульптура по эту сторону глаз, перед невидимым центром. Центр следил за ней в промежутки безвременья, когда капли пота преодолевали путь от одного пузыря до другого. Однако он знал, что эта мысль – враг, и потому, хоть и смотрел, не соглашался и не делал из нее выводов. Если медлительный центр сейчас и действовал, он сосредоточился на себе, пытаясь идентифицировать свою сущность, а мысль оставалась неподвижной, как застывшая мраморная фигура в парке, на которую никто не обращает внимания. Кристофер, Хэдли и Мартин стали разрозненными фрагментами, и в центре тихо тлело негодование на то, что они посмели отделиться. Зрительное окошко заполнялось цветовым рисунком, но центр в своем странном состоянии не воспринимал его как нечто внешнее. Цвет был единственным видимым пятном, словно освещенная картина в темном зале. Снизу доходило ощущение струящейся влаги и неудобства, доставляемого твердым камнем. Пока центр был удовлетворен, он знал, что существует, пусть даже Кристофер, Хэдли и Мартин – всего лишь далекие осколки.
Картину на стене скрыла завеса из волос и плоти, и изучать стало нечего, кроме единственной мысли. Он познал мысль. Ужас, пришедший с нею, заставил использовать тело. Огненные вспышки нервов, напряжение мышц, вдохи и выдохи, дрожь. Мысль обратилась в слова и вытекла изо рта.
– Меня никогда не спасут.
Ужас сотворил большее: шарниры суставов распрямились, тело встало на ноги и заметалось по площадке Наблюдательного поста под тяжестью неба, а потом приникло к Гному. Каменная голова тихо кивала, и солнце луч металось туда-сюда, вверх-вниз по серебряному лицу.
– Заберите меня отсюда!
Гном ласково кивнул блестящей головой.
Он скорчился над белесой канавой, цветовые пятна снова замелькали перед окошком.
Кристофер, Хэдли и Мартин шагнули друг к другу. Подчиняясь воле центра, цвет занял все пространство над скалой, разлился по морю и небу.
– Надо знать своего врага.
Телом владела болезнь. Солнечные ожоги, потом отравление – и мир сошел с ума. Надежды падали в пропасть, где клубилось одиночество. Пришла мысль, а за ней другие, невысказанные и непризнанные.
– Возьми их и посмотри.
Запас воды висел на волоске, сохраняемый лишь илистой запрудой. Еды с каждым днем становилось все меньше. Тяжесть, неописуемая тяжесть давила на тело и мозг, за сон приходилось бороться с обрывками старых фильмов. Еще был…
– Был и есть.
Он сидел, скорчившись на скале.
– Возьми и посмотри.
– Еще картинка. Я не знаю, что это, но разум смущает даже неясная догадка.
Нижняя часть лица шевельнулась, обнажая зубы.
– Оружие. Кое-что еще осталось.
Разум – последний рубеж. Монолитная воля. Стремление выжить. Мой разум, ключ ко всем картинкам: разум способен создать их и наложить на окружающее. Сознание в дремлющей вселенной – темный, неуязвимый центр, убежденный в своей самодостаточности.
Слова снова закапали на промокательную бумагу.
– Здравый смысл – это способность к восприятию реальности. Какова же реальность моего положения? Я один на скале посередине Атлантики. Вокруг – безбрежное пространство плещущейся воды. Однако скала стоит твердо, она уходит далеко вниз, соединяясь с морским дном, а значит, и с родными берегами и городами. Я должен помнить, что скала тверда и незыблема. Если она сдвинется, значит, я сошел с ума.
Над головой захлопал крыльями летающий ящер и выпал из поля зрения.
– Надо держаться. Во-первых, за жизнь, во-вторых, за рассудок. Я должен что-то предпринять.
Он снова зашторил окошко.
– Я отравлен. Прикован к свернувшейся кольцами кишке длиной не больше крикетного поля. Все ужасы ада всего лишь следствие обыкновенного запора. Что копаться в добре и зле, если змея свернулась в моем собственном теле?
Он подробно представил себе кишечник, его медленные сокращения и результат смены привычной пищи на отравленную пробку.
– Я Атлант. Я Прометей.
Он представил себя гигантом, высящимся на вершине скалы. Челюсти сжались, глаза надменно взглянули сверху вниз. Герой, которому по плечу невозможное. Он встал на колени и неумолимо пополз вниз по склону. Нашел в расселине пояс, взял нож и отпилил от резиновой трубки металлическую насадку с колпачком. Пополз дальше, к «Красному льву». Вдали заиграла музыка: отрывки из Чайковского, Вагнера, Хольста. Ползти было необязательно, но торжественная размеренная музыка требовала движения неторопливого и непреклонного, наперекор всем преградам. Колени крушили пустые ракушки, словно глиняные черепки. Торжествующие аккорды рвались к небу, раздуваемые сияющей медью.
Он добрался до камня с лужицей, где жила обросшая тиной мидия и три аккуратных анемона. Крошечная рыбка по-прежнему плавала, но уже с другой стороны. Он погрузил пояс в воду, и рыбка отчаянно заметалась. Из трубки струйкой вырвались пузырьки. Он сжал резину, потом расправил. Вода заструилась внутрь между рвущихся вверх пузырьков. Еще, еще глубже. Он вытащил пояс и потряс, внутри забулькало. Он снова утопил его и сжал. Звук струящейся воды сливался с голосами медных и деревянных труб. Скоро, совсем скоро оркестр на миг умолкнет, а затем зазвучит кода… Над водой показалась обросшая водорослями верхушка мидии. Крошечная рыбка в ужасе от неожиданного отлива забилась на влажной скале, борясь с поверхностным натяжением. Анемоны захлопнули рты. Спасательный пояс заполнился на две трети.
Расставив ноги, он откинулся на скалу. Море играло с солнцем под ликующую музыку, вселенная затаила дыхание. Охая и постанывая, он ввел себе трубку в задний проход, сложил пояс вдвое и уселся на него, добавляя давления руками. От морской воды в кишечнике холодно покалывало. Он мял и жал резиновый мешок, пока не вышла вся вода, затем извлек трубку и осторожно подполз к краю утеса. Гром оркестра затих.
Кода приблизилась – и наступила. Она обрушилась в море во всем торжественном великолепии отточенной техники: как прорыв плотины, как мощная атака, сметающая все препятствия – судороги нот, могучие аккорды, сверкающие арпеджио. Отдав коде все силы, он растянулся на скале, опустошенный. Оркестр умолк.
Он обернулся к скале.
– Ну что, кто победил?
Рука небес была тяжела. Он поднялся на колени среди россыпей пустых ракушек.
– Теперь я в здравом рассудке и не буду рабом собственного тела.
Он опустил глаза на мертвого малька. Ткнул пальцем в анемона. Изящные лепестки дернулись, пытаясь ухватить добычу.
– Жжет. Отрава. Меня отравили анемоны. Похоже, дело не в мидиях.
Силы понемногу возвращались, но не настолько, чтобы героически ползти. Он медленно побрел на вер шину.
– Все на свете можно предвидеть. Я знал, что не утону, – и вот она, скала. Знал, что смогу здесь выжить, – и живу, переборов змею в своем теле. Знал, что буду страдать, – и страдаю, но я все равно выйду победителем. В этой новой жизни есть свой смысл, невзирая на тяжесть и промокательную бумагу.
Он уселся рядом с Гномом, задрав колени. Глаза смотрели наружу, а значит, он жил на свете.
– Похоже, я хочу есть.
Почему бы и нет, если жизнь начинается заново?
– Еда в тарелке. Вкусная еда и уют. Еда в магазинах и мясных лавках, еда, которая не уплывет, не сожмется в кулак, не скользнет в расселину – разделанные туши на прилавках, целые груды даров…
Глаза повернулись к морю. Начинался отлив, от Трех скал потянулись глянцевые полосы.
– Оптический обман.
Скала стоит твердо, это факт. Порой кажется, что она вдруг двинулась вперед, но это лишь оттого, что у глаз нет другой точки отсчета. Однако за горизонтом – берег, и как бы вода ни перемещалась, расстояние до него останется неизменным. Губы искривились в мрачной ухмылке.
– Неплохо задумано. Кто-то бы купился.
Это как поезд, который стоит на месте, но кажется, будто поехал назад, когда отходит соседний. Как перечеркнутые наклонные линии.
– Разумеется, скала стоит, а вода движется. Ну да. Прилив – это гигантская волна, которая омывает весь мир, вернее, это мир крутится в волнах прилива, а я со скалой…