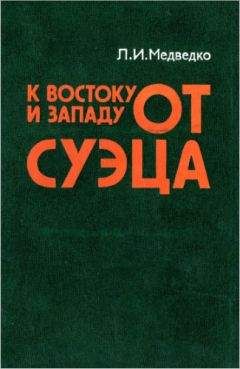На его зов появились двое эльфов, выслушали короля, и беззвучно, словно солнечные зайчики, слетели по лестнице.
Тумбар же говорил, раздумчиво:
— У врага это в обычаи — приходить на праздники. В тот миг, когда и забудешь, что существует зло — черный меч обрушиться на пиршественный стол. С другой стороны — впереди нелегкое время — может, та тьма, что сгущается над Среднеземьем и не обрушит на нас удар — слишком уж мы мелки для грандиозных, как всегда, замыслов Врага, но краешком то она нас задет — это точно. И только вместе мы сможем дать отпор…
Барахир ожидавший прямого ответа — проводить праздник или же нет, замер, но король молчал. Наконец, юноша решился, прокашлялся, спросил:
— Так будем ли мы завтра праздновать?
— Подождем то, что принесут следопыты.
— Хорошо. В таком случае, мне пора идти. — молвил Барахир, с сожалением взглянув на открывающийся вид, и на эльфийскую деву.
Эллинэль почувствовала его взгляд, с мягкой улыбкой обернулась:
— Батюшка, я провожу нашего гостя.
— Хотелось бы мне побывать здесь хоть еще раз. — признался Барахир.
— Что ж — почему бы и нет? Ты первым из людей сюда поднялся; к тому же, ты и раньше уже познакомился с моими подданными — не удивляйся, мне известно от птиц все, что происходит в лесу. В награжденье приглашаю тебя завтра с твоим государем на эту высоту. В том случае, конечно, если праздник состоится.
И вот, так и не заходя в эльфийский белокрылый дворец, Барахир и Эллинэль, взявшись за руки, слетели по боковой лестнице, и побежали по той, которая вилась вокруг ствола.
Сердце Барахира защемило от того, и он признался, стремительно летя навстречу объятьям леса и озера:
— У меня поэмы из груди так и рвутся! Дали бы мне перо…да, разве ж, выразишь чувства, хоть стихами… Я вас… — он запнулся, а потом решился и выкрикнул: — Я вас люблю!
Рядом зашумело лиственное озеро; и юноше казалось, что в голосе каждого листа тоже шепот: «Люблю, люблю тебя!»
Незаметно, будто за спиною осталось ступеней десять, пролетел этот спуск. Вот их ноги уже коснулись земли.
— Позвольте мне на прощанье обнять вас..
Так попросил юноша, не чувствуя даже, сколь дерзка такая просьба — как к еще одному эльфийскому чуду стремился к ней юноша, и дева поняла это.
— Хорошо, обнимемся. Только исполни мою просьбу: закрой глаза.
Барахир закрыл глаза, протянул вперед руки, и услышал ее фонтаном звенящий голос:
— Ну, подойди же!
Барахир сделал несколько шагов, и вот коснулся ее. Теплая, живая плоть, словно родниковая струя, разлилась по его ладоням — она оказалась и мягкой и трепетной; он немного надавил на нее, и она нежно поддалась. Барахир, не веря в счастье свое, не смел открыть глаз, а девичий голосок зазвенел над его ухом:
— Поцелуй меня!
Барахир придвинулся немного вперед, и вот прикоснулся к ее губам — какими же трепетными, мягкими оказались они. Юноша почувствовал, как от них перетекает к нему сила — ах, надо было оторваться, иначе бы его разорвало от этой силищи!
Ах, да пусть бы и разорвало! Такое восторженное состояние он никогда не испытывал!
— Открой глаза! — со смехом зазвенел голосок Эллинэль.
Барахир повиновался, и понял, что все это время обнимался с мэллорном, ну а Эллинэль взошла на один круг лестницы, и теперь смеялась метрах в двадцати над его головой.
Барахир нисколько не огорчился и не смутился — он любовался и мэллорном, и девой, и плотами, и всеми эльфами и озером, и лесом, и птицами, и облаками — и всех он их любил одинаково, и всех он был готов обнимать и целовать!
* * *
Маэглин был сыном сапожника. Отец его отличался суровым, угрюмым нравом; и, забитая мать Маэглина — робкая, покорная женщина, сидела все время в темном углу, пряла там, стараясь не издавать каких-либо звуков; ее тихий голос будущему хранителю ворот довелось слышать лишь раз десять.
Она умерла так же, как и жила — в молчании, и в своем углу, за пряжей, и, потом, всем казалось, что ее и не было вовсе, а был только расплывчатый призрак в старом, почти уже забытом сне.
Маэглин не любил ни своего горько запившего после смерти матери отца, ни кого бы то ни было иного. Волей не волей, именно в своего отца он и пошел. Уже вскоре после смерти матери (а тогда ему только исполнилось тринадцать) — нрав этот проявился в полной мере. Он не желал общаться со сверстниками, не желал выходить куда-либо из дома, но сидел в темном углу; слушал пьяную, обращенную к воздуху ругань отца, и никто не видел тогда его бледное, искаженное ненавистью лицо.
Уже в шестнадцать лет, не получивши никакого образования, он устроился в государеву дружину. Он, привыкший в темном углу сдерживать свои чувства, и теперь никогда не проявлял их в открытую: выполнял все, что было поручено — выполнял молча, с каким-то неискренним рвеньем; и никто от ничего, кроме сухих, односложных ответов не слышал.
Чуть приплюснутое лицо его, с маленьким носом, с синими полукружьями под глазами, с постоянной испариной на лбу — казалось высеченным из камня и никогда никаких эмоций никогда не проступало на нем.
Как-то, между начальником караула и одним государевым советником зашел разговор как раз об Маэглине, ибо, незадолго перед этим, государственному советнику довелось задать несколько вопросов сыну сапожника:
— Он юноша, или кто? — дивился советник, прихлебывая вино.
— Он отвечает, что ему только пошел третий десяток. — молвил, уже раздобревший от выпитого, начальник караула.
— А с виду кажется, что у него вовсе возраста нет. Не понятное лицо какое-то.
— Но службу несет исправно. — заявил начальник караула.
— Но необычайный… Вот такой-то необычайный — угрюмый и честный нам и нужен. Уходит старый хранитель ворот Бэги — совсем уже старым стал, уже и ключа в руках держать не может…
На следующий день, когда начальник караула торжественно объявил Маэглину о его новом назначении, то в одном месте запнулся, ибо жуткая ухмылка исказила это каменное лицо.
— Ты что?
— Все хорошо. — своим обычным, ровным тоном заявил Маэглин.
В тот же день он явился к своему оглохшему и тяжко заболевшему к старости отцу, и зашептал ему на ухо:
— Сегодня исполнилась моя мечта. Я это возжелал в тот день, когда увитая своей паутиной, умерла здесь моя мать, об этом мечтал я все последующие годы, сидя в ее же углу… Я возненавидел этот город за то, что ему не было дела ни до умирающей, от безысходной жизни с тобой, мерзкая скотина, матушки, ни до меня, достойного чего-то большего, но обреченного прозябать среди гнилостных этих стен. Как же давно я мечтал о том, чтобы город оказался в моих руках — и вот это, достойное меня, Маэглина, сбылось. Теперь то, стоит мне только повернуть ключик, и лава польется на эти улицы. Выметет все подчистую, ну а я стану героем! Ха-ха! Я отдаю тебе сокровеннейшую свою тайну, а ты даже и не слышишь! Вот так же и они не поймут, что к чему, пока лава не выжжет их!..
Вот такому человеку достались ключи от городских ворот. Теперь он стал совсем уж нелюдим, сидел в сторожке, возле ворот, и проходившие порой видели его бледный лик; страшно высвеченный белым лучом в каком-нибудь темном углу.
Говорили даже:
— Наши ворота сторожит мраморная статуя, и нечего бояться.
Жители и впрямь не боялись никого, кроме «колдунов-эльфов» из леса. А о том, что на верховьях Седонны обитают племена варваров, которые когда-то чуть не перебили весь их народ, вспоминали разве что в страшных сказках.
А Маэглин ждал, и, сидя в темном углу, набирался все большего презрения. И как же он ждал того часа, когда сможет возвыситься!
Накануне весь день шумел дождь, и Маэглин, как всегда угрюмый, все это время сидел в совершенной недвижимости, да представлял, как вспыхнет Туманград, как его на золотых носилках вынесут из дымящихся развалин; будут славить, бросать цветы — и понесут… понесут к Новой Жизни.
К ночи, дождь усмирился, и только журчали по мостовой ручейки, да звенела с крыш капель. В каморке Маэглина было душно — ведь он никогда не открывал окон, опасался, что кто-то подслушает его (хоть он никогда и не проговаривал мыслей).
Вдруг — негромкий, острожный стук в дверь.
«Вот она — судьба!» — понял хранитель ворот, и развившееся за годы одиночества воображение вывело целую армию, которая уже выстроилась под стенами ненавистного города, и только и ждала, когда он, Маэглин, совершит свой подвиг — повернет пред ними ключ. Направляясь к двери, он уже представил высокого, одетого в золотые доспехи воина, с благородным лицом.
И он уже хотел выкрикнуть: «Я готов!» — как вынужден был отступить и со вздохом разочарования повалится на свой жесткий деревянный стул.
На пороге предстал какой-то оборванец пришедший, должно быть, из кабака клянчить у него монету. Он захлопнул за собой дверь, оглядел внимательно каморку, хмыкнул, и уселся за стол, против Маэглина.