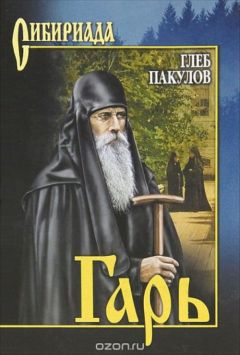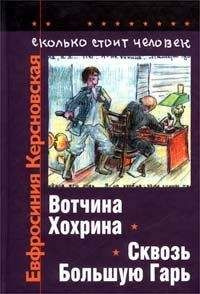Молчание было ответом. С полчаса назад негромко хлопнув замком, Лисицын выбежал на улицу. Слова врача внезапно показались ему особенно важными, тот помянул священника, а что, если… безумная мысль, но почему бы не ухватиться за нее. Это не шанс, это чудо, но, быть может, ему удастся отыскать это чудо в ближайшие тридцать минут.
Другой вопрос, где? Борис обежал дом, вспоминая, где может располагаться ближайшая домовая церковь, после поджогов ее верно, найдешь только по объявлениям. А денег…. Или идти к беженцам? Ведь среди них может найтись окормляющий эту аморфную лоскутную массу жрец. Лишь бы не запросил больше, чем у него осталось.
Он проскочил палаточный городок на территории бывшего стадиона, промчался рысью, почти не разбирая дороги, к проспекту 60-летия Октября, к автобусной остановке, тут же вспомнил, что сто девяносто шестой уже несколько дней не ходит, оглянулся в поисках маршрутки; ему плохо соображалось, но желание поехать ближе к центру доминировало, почему, он и сам не мог понять. Повинуясь этому инстинкту, он втиснулся в переполненный салон, позабыв даже заплатить, впрочем, ему об этом немедля напомнили, изогнувшись, – почти все места, и даже стоячие, заняты, – он вытащил пятьдесят рублей. Мало. Маршрутка неожиданно свернула на улицу Вавилова; Бориса высадили у торгового центра, в конце улицы Орджоникидзе, дальше водитель везти отказался.. Удача то была или стечение обстоятельств, но едва он бросился в сторону бывших цехов, некогда ставших магазинами, а ныне городком беженцев, как ему встретился молодой человек, как показалось Лисицыну, всем своим видом указывающий на принадлежность к касте жрецов. Ни секунды не колеблясь, Борис остановил его, в другое время он еще несколько раз подумал, прежде чем сделал это, но теперь… он словно оказался между реальностей, в промежутке, где только и можно уверовать в чудо и немедля уверовав, обрести его.
– Простите, вы священник? – молодой человек неожиданно вздрогнул, пристально посмотрел на Лисицына, и наконец, ответил согласием. – У меня к вам просьба одна будет. Не сочтите за труд…
Молодой человек не счел, напротив, ответил живейшим согласием. Попросил его погодить немного, дабы он взял свои принадлежности, нет, лучше идите за мной; на пороге одного из цехов, пожалуй, самого большого на бывшем заводе, они столкнулись с гулящей девицей лет пятнадцати. Священник, обращаясь к ней по имени, почти восторженно заявил о своей требе, судя по его радости, первой на новом месте. Впрочем, мысли об отношениях этой странной пары немедля выскочили из головы Лисицына, стоило ему заглянуть ей в лицо. Новое безумство взбрело в голову. Он обрался уже к гулящей.
– Впрочем, и ты, если не занята, можешь пойти, – на что та живо кивнула, не спрашивая ни цену, ни договариваясь о числе желающих ее услуг. Борис взглянул на часы, и попросил поторапливаться, молодой священник уже вынырнул из здания цеха, с требником и застиранным рушником в руках. На шее появился нательный крест.
– Идемте? – произнес он. – Это далеко?
Маршрутки долго не было, Борис решил идти пешком. На его счастье девица поймала легковушку, водитель, увидев в руке молодого человека требник, ничего не сказав, молча подвез их до дома, и ничего не потребовал взамен, наверное последний самаритянин в новом Вавилоне. Борис быстро взбежал на этаж, открыл дверь. Услышал голос Леонида, спрашивавшего, тут ли он.
– Да, здесь, все в порядке, – Лисицын невольно вздрогнул. Голос, донесшийся из комнаты, хоть и был тверд, но сомнения в крепости рассудка, одурманенного и одураченного морфием, по-прежнему не давали покоя. Скинув куртку, он вошел в комнату.
– Дорассказать мне осталось немного, – продолжил Оперман, тут только Лисицын понял, что Леонид так и не заметил его отсутствия. Или не придал ему значения. И невольно содрогнулся.
– Я тебя слушаю.
– Я никогда не любил эту страну, последние годы и вовсе ее ненавидел, наверное, даже сильнее, нежели она того заслуживала. Я и по сию пору считаю себя гражданином той самой разорванной на куски державы, чтобы про нее ни говорили, хоть грязью поливали, хоть осанны пели. Она осталась в прошлом, и я вместе с ней. Так и не приучился к дивному новому миру, любезно подсунутому нашими новыми вождями. Так в нем ничего не нажил, да, честно говоря, не больно и стремился. Мне чужда была идеология нового мира, отвратительна его религия, ненавистна система ценностей. Для меня Россия с самого ее появления, как шмоток мяса с разлагающегося трупа. Когда он начал смердеть особенно сильно, вожди назвали это «подниманием с колен». А теперь все кончилось. Больше с колен подниматься некому, отвратительный этот голем рухнул, снова обратившись вязкой глиной. И у меня еще осталось время посмеяться над этими останками.
– Знаешь, – продолжал он, – я всю жизнь мечтал пережить этого гомункулуса, эту химеру, эту обрезанную по самое не могу страну. И хоть эта мечта моя осуществилась…. Похоже, единственная. Как ни странно, другой у меня нет. Но почему странно, нормально. Ведь и меня больше нет…. Да нет, Борис, не расстраивайся так, наверное, это и должно было произойти. Я увидел смерть своего врага. И мне еще повезло, что я не застигну самый конец, агонию. Моя придет раньше. Вот тебе, да, мне жаль, Борис, тебе не повезло остаться в живых и увидеть весь ужас.
Он замолчал, откинувшись на подушки, речь утомила его, мысли стали путаться. Действие наркотика заканчивалось, еще несколько минут и наступит агония, он это чувствовал, ощущал всем существом, но нисколько не боялся наступления. Он уже все высказал, что хотел, и теперь понимал, что расплата за его речи будет недолгой.
Кондрат и Настя слушали его молча, из прихожей, не решаясь войти. Руки девушки похолодели, странное желание пришло ей на ум, положить ладони на лоб лежащего и согреть его своим теплом. Микешин нервно теребил четки, казалось бы он давно привык к подобным излияниям на смертном одре, к кому только не доводилось ему приходить с отцом Саввой. И к отпетым бандитам, и к немыслимо состоятельным бизнесменам, и к влиятельным чиновникам, и порой даже к простым смертным, и чаще всего он слышал одни и те же проклятия и бессильные угрозы. Но слова Опермана потрясли его до глубины души. Сам он почти не застал Союз, ничего, кроме воспоминаний голодного детдомовца, не вынес, но эта страстность человека, лежащего на подушках, которого ему сейчас, верно, предстоит, причащать и отпевать, эта убежденность заставили сердце замереть. Он невольно вышел из прихожей в комнату, умирающий посмотрел на Микешина и попытался снова подняться, неудачно. Глухим голосом Леонид произнес:
– Зачем здесь священник? Я не просил… значит, ты все же ходил… ты думал, он мне поможет? Чем? – и тут увидел бледное лицо Насти, заглядывающее в комнату. Оперман замолчал на мгновение, а затем единственное слово сорвалось с его губ:
– Ангел? – произнес изумленно он. попытался потрясти головой, но силы оставили Леонида окончательно. Оба молодых человека, находящихся в комнате, резко обернулись. Настя, с колотящемся сердцем, тихо вошла, поглядывая то на одного, то на другого. Пересекла комнату и остановилась у изголовья. Присела на кровати. Руки дернулись, и медленно легли на лоб. Уголки губ лежащего дернулись, он пытался улыбнуться.
– Спасибо, ангел, – тихо произнес он. И замолчал надолго. Настя не отпускала рук, отчего-то вспомнив свое вымышленное имя, коим представлялась клиентам еще в Москве, им это нравилось, хотя в него никто не верил. Поверил только он.
Когда Настя наконец отняла руки, Оперман уже не дышал. Ее предупредили, что усопший не восстанет, и все же она поднялась, но отойти не смогла, будто не давало что-то. Стояла и смотрела на лицо незнакомого ей человека, такое спокойное и умиротворенное, точно Леонид после долгого путешествия по крутым поворотам жизни, ныне обрел долгожданный покой. За спиной послышался тяжкий вздох: Лисицын, уткнувши лицо в рукав рубашки, плакал, перестав обращать на гостей внимания.
Кондрат молча подошел к нему, постоял, но не дождался ответа, а потому вернулся к усопшему и стал негромко читать отходную.
104.
Пашков принял его у себя.
– Приятная новость, что и говорить, – повторял он, не обращая внимания на бесконечные повторы, – очень приятная. Жаль, конечно, что так поздно, вот бы на пару недель пораньше. Может, коньяку?
Нефедов согласился, премьер вынул из бара бутылку «Метаксы», разлил по рюмкам, спохватившись, предложил лимон, директор ФСБ помотал головой.
– За маленькую удачу, – провозгласил он, поднимая рюмку, Нефедов не успел чокнуться, как Пашков уже поспешно опрокинул ее. Тут же предложил повторить, на что снова получил отказ, не особо обращая внимание на это, премьер позволил себе еще пятьдесят граммов. – Я шуганул министра информации, чтоб немедля по всем каналам. По радио, эх жаль, нет больше Интернета…