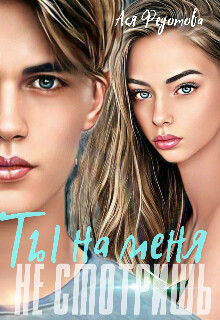— Уэнс, ты слышишь меня? — сосредоточенно спрашивает он, с тревогой заглядывая в лицо.
Вяло киваю, не будучи уверенной в своей способности издать хоть один членораздельный звук. Сердце бешено колотится в клетке из рёбер, болезненно сжимается вопреки всем законам нормальной анатомии, а в горле стоит мерзкий колючий комок, который невозможно проглотить. Ко всему прочему в уголках глаз начинает предательски щипать — Oh merda, неужели я близка к тому, чтобы разрыдаться?
— Ты должна перевязать рану, слышишь меня? Блять, да очнись ты! — почти рычит Галпин, снова встряхивая меня как тряпичную куклу с обрезанными ниточками. — Ты нужна нам!
Едва воспринимаю смысл его слов.
В голове клубится туман, а безотчётный страх смерти нещадно царапает в районе солнечного сплетения старым зазубренным ножом.
Похоже, я так много думала о своей смерти, что окончательно свыклась с этими мыслями и напрочь позабыла, что гораздо страшнее другое — когда в паре шагов от тебя умирает другой человек, а ты не можешь сделать совершенно ничего, чтобы предотвратить кошмарный исход.
Но я должна попытаться.
Должна сделать хоть что-то.
Поглубже вдыхаю сухой пыльный воздух, насквозь пропитанный запахом металла — к горлу опять подступает мерзкая тошнота, но мне кое-как удаётся подавить рвотный позыв.
Не имея никаких сил подняться на ноги, я вяло дёргаю плечами, сбрасывая руки миротворца, и на четвереньках подползаю к доморощенному герою. Я пачкаю ладони в луже крови ещё до того, как успеваю прикоснуться к рваной ране на его шее и зажать двумя пальцами порванный в клочья сосуд. Смутно чувствую биение чужого пульса, и это ощущение становится слабым катализатором для запуска заторможенного мыслительного процесса.
Благо, это не сонная артерия.
Вроде бы это не сонная артерия.
Но вряд ли это нам чем-то поможет.
Oh merda, я ведь не врач — и едва понимаю, что должна делать, и каким образом я могу остановить настолько сильное кровотечение.
— Господи, Господи… — бормочет Энид как заведённая, замерев неподвижной статуей на расстоянии пары шагов от нас. Младенец в её руках истошно надрывается, но блондинка не предпринимает никаких попыток его успокоить. — Что же нам делать, Господи…
Жаль, что Господь не ответит на её отчаянные молитвы — очевидно, грёбаный старик, гордо восседающий посреди облаков, взял бессрочный отпуск три года назад, оставив нас разбираться с этим дерьмом самостоятельно.
— Возьми это… — Тайлер суёт мне в руки какую-то засаленную шерстяную тряпицу, некогда бывшую шарфом.
Но это лучше, чем ничего.
Поэтому забираю у него кусок плотной колючей ткани и прижимаю к рваной ране, безуспешно пытаясь остановить кровотечение. Для удобства слегка приподнимаю голову Ксавье и кладу к себе на колени, напрочь игнорируя тот факт, что джинсы неизбежно пачкаются в луже крови. Пальцы свободной руки запутываются в его распущенных волосах, скользят по мягким каштановым прядям, бережно поглаживают макушку — какая несусветная глупость… как будто это может чем-то помочь.
Жалкий шарф пропитывается насквозь в считанные секунды… или минуты?
Не могу сказать точно, кажется, от тотального шока я совсем утратила ощущение времени. Сильно прикусываю губу с внутренней стороны, отчаянно надеясь, что вспышка боли поможет мне собраться с мыслями.
Но в голове по-прежнему пусто. Нет никаких мыслей, никаких идей, никаких предположений, что можно сделать.
Да и можно ли?
— Уэнсдэй… — едва слышный хрипящий шёпот вспарывает моё сознание подобно остро заточенному скальпелю. Голос хренова героя звучит настолько тихо и надтреснуто, что я не сразу понимаю, что это не плод моего воспалённого воображения, а действительно происходит наяву. — Посмотри на меня, Уэнсдэй…
Но я не могу посмотреть.
Мой немигающий остекленевший взгляд упирается в заплаканное лицо Синклер, а предательски дрожащие пальцы продолжают машинально перебирать волосы Торпа. Мягкие спутанные пряди испачканы липкой кровью, которой с каждой секундой становится всё больше — на моих потёртых чёрных джинсах, на его помятой серой футболке, на грязной кафельной плитке на полу этого проклятого супермаркета. Oh merda.
Всю свою жизнь я рьяно избегала любых привязанностей, считая подобную слабость более губительной, нежели зависимость от белой кокаиновой дорожки или героина, разогретого в алюминиевой ложке и пущенного по вене. Но все несокрушимые принципы безвозвратно пали в ту роковую минуту, когда дуло Кольта уперлось мне промеж лопаток — и продолжали разрушаться, когда я позволила Торпу поцеловать себя, когда добровольно пришла к нему в комнату в одном полотенце, когда без тени сомнений впустила его в своё тело, в свои мысли и в своё сердце.
А теперь я точно знаю две вещи.
Всего две.
Я не смогу его спасти, как бы ни старалась.
И я непозволительно сильно привязалась к этому человеку.
Он умрёт, непременно умрёт.
А я останусь жить в этом агонизирующем мире. С вечной сосущей пустотой на месте органа из двух желудочков и двух предсердий — и с его ребёнком под сердцем, о котором Торп никогда не должен был узнать. Всё-таки смерть страшна, так невыносимо ужасно страшна… Но не для умирающих. А для тех, кто останется.
— Уэнс… — понятия не имею, каким образом хренов герой ещё находит в себе силы, чтобы произносить моё имя на последних вздохах. Его жизнь безнадёжно утекает из стремительно слабеющего тела, струится сквозь мои безвольно трясущиеся пальцы тёплыми струйками липкой крови, разливаясь вокруг огромной лужей. Но потускневший взгляд малахитовых глаз упрямо пытается поймать мой. — Пожалуйста…
И я сдаюсь. Как всегда сдаюсь.
До боли закусываю нижнюю губу, набираю побольше спасительного кислорода в лёгкие — и очень медленно опускаю взгляд на его лицо с чёткими выразительными чертами. Прямой зрительный контакт сиюминутно отзывается замиранием сердца, сбоем всех систем, и мне вдруг становится так больно, как никогда в жизни. Как там говорят? Разбитое сердце?
Oh merda, какое ужасное неточное клише.
Ведь в эту минуту мне кажется, будто внутри разом ломаются все двести шесть костей.
— Уэнс… Ты должна знать… — мне приходится напрячь слух, чтобы разобрать едва различимые слова. — Я люблю тебя.
Но признание звучит как прощание.
Собственно, оно и является таковым.
Люди склонны к удивительной откровенности, лёжа на смертном одре — вот только какой в этом смысл? Разве от этого мне будет легче выстрелить ему в лоб, когда смертоносная зараза сделает своё дело и заново вдохнёт уродливое подобие жизни в его опустевшую физическую оболочку? Разве от этого мне будет легче раз за разом просыпаться в том мире, где хренов герой не будет доводить меня до зубного скрежета своими дурацкими командами… или до умопомрачения — своими жадными прикосновениями? Разве от этого мне будет легче просто жить дальше в той новой реальности, где его не будет вовсе?
Ответ очевиден.
— Заткнись… Ничего не говори, — шиплю я сквозь зубы, плотнее прижимая окровавленную тряпицу к его растерзанной шее, пока пальцы крепче сжимаются в мягких каштановых волосах. — Не вздумай прощаться, чёрт возьми. Если ты подохнешь, я убью тебя, ясно?
Очевидно, я несу какой-то несусветный бред, абсолютно не контролируя себя и безвозвратно утратив всякое самообладание. Просто-напросто глушу подступающие рыдания в бессвязном хаотичном бормотании — потому что точно знаю, что если замолчу хоть на секунду, тщательно сдерживаемые слёзы неизбежно прорвутся наружу.