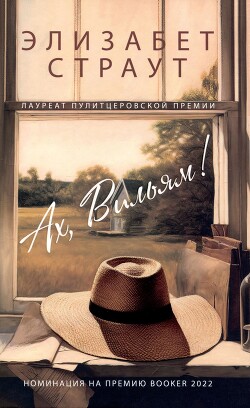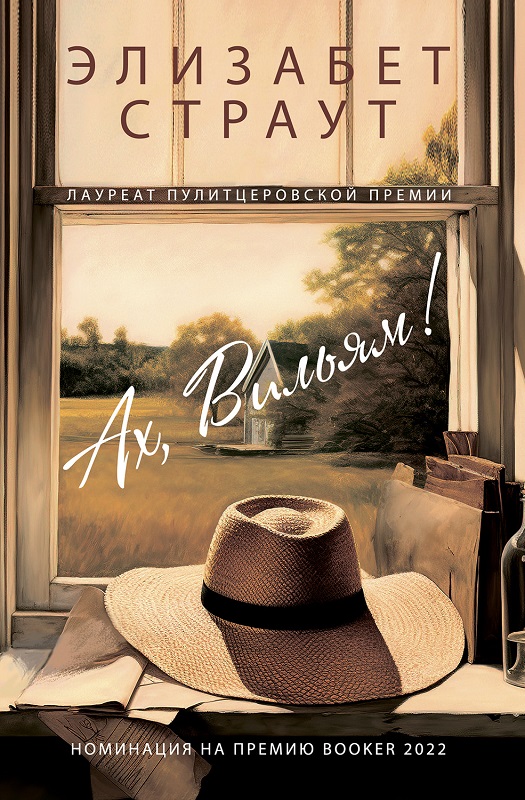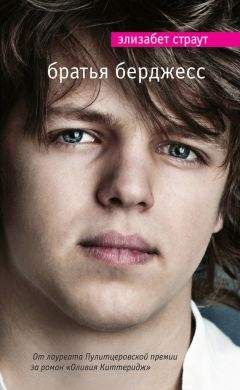Тем утром, в закусочной на углу, спрашивая: «Ну как ты, Вильям?» — я ожидала услышать обычное ироническое: «Просто замечательно, Люси, большое спасибо», но он сказал лишь: «Нормально». На нем было длинное черное пальто, и, прежде чем сесть, он снял его и перекинул через спинку соседнего стула. Его костюм был сшит на заказ, с тех пор как он встретил Эстель, он все костюмы шьет на заказ, поэтому пиджак идеально сидел на плечах; костюм был темно-серый, а рубашка бледно-голубая, а галстук красный; вид у него был торжественный. Он скрестил руки на груди, это у него такая привычка. «Хорошо выглядишь», — сказала я, и он ответил: «Спасибо». (По-моему, за все минувшие годы Вильям ни разу не говорил мне, что я выгляжу хорошо, или мило, или хотя бы неплохо, а я, если честно, всегда надеялась это услышать.) Он заказал нам кофе, его глаза заскользили по комнате, и он легонько потянул себя за усы. Он говорил о наших девочках — боялся, что Бекка, младшая, на него сердится: на днях, когда он позвонил поболтать, в ее тоне была смутная неприязнь, и я посоветовала, пусть не напирает на нее, она сейчас осваивается в браке; так мы беседовали несколько минут, затем Вильям взглянул на меня и произнес:
— Лютик, я хочу кое-что тебе рассказать. — Он подался вперед: — По ночам меня мучают страхи.
Если Вильям использует мое старое прозвище, значит, он включился в беседу по-настоящему, мне всегда очень приятно, когда он так меня называет.
— Тебе снятся кошмары? — спросила я.
Он задумчиво склонил голову набок.
— Нет. Все начинается, когда я просыпаюсь посреди ночи, в темноте. Никогда со мной такого не бывало, — добавил он. — Но это жутко, Люси. Просто жуть берет. — Он поставил чашку на стол.
Я смерила его взглядом:
— Ты пьешь какие-то новые таблетки?
— Нет, — насупившись, ответил он.
Тогда я сказала:
— Ну попробуй принимать снотворное.
А он мне:
— В жизни не принимал снотворного (что меня не удивило).
Зато жена принимает, сказал он; Эстель глотает таблетки пригоршнями, он давно оставил попытки в них разобраться. «Пора пить таблетки», — весело говорит она и через полчаса уже спит. Он не возражает. Но снотворное — это не для него. Как бы то ни было, часа через четыре он просыпается, и тут начинаются страхи.
— Расскажи, — попросила я.
И он рассказал, поглядывая на меня лишь изредка, будто страхи его еще не отпустили.
Страх первый: он безымянный, но связан с матерью Вильяма. Его мать — звали ее Кэтрин — умерла много лет назад, и по ночам он ощущает ее присутствие, но не в хорошем смысле, а в плохом, и это его удивляет, ведь он ее любил. Вильям был единственным ребенком в семье и понимал (тихую) ярость ее любви.
Пытаясь унять этот страх, он лежит в постели рядом со спящей женой — он сам мне сказал, и его слова чуть не убили меня — и думает обо мне. Что я нахожусь сейчас где-то, живая, — что я жива, — и это его утешает. Ведь он знает, сказал он, поправляя ложку на блюдце, что, если придется, — хотя вообще он бы, конечно, не стал делать этого посреди ночи, — но уж если придется, он может позвонить мне, и я отвечу. Мое присутствие — величайшее для него утешение, и только так ему удается уснуть.
— Ну конечно, ты всегда можешь мне позвонить, — сказала я.
Вильям закатил глаза:
— Я знаю. В этом весь смысл.
Еще страх: он связан с Германией и отцом Вильяма, который умер, когда Вильяму было четырнадцать. Его отца привезли в Америку из Германии в числе немецких военнопленных — это было во время Второй мировой — и отправили работать на картофельные поля в штате Мэн, где он и познакомился с матерью Вильяма, тогда еще фермерской женой. Наверное, это худший страх Вильяма, потому что его отец воевал на стороне нацистов, и этот факт иногда напоминает о себе по ночам и не дает Вильяму покоя; перед глазами у него всплывают концлагеря — мы видели их, когда ездили в Германию, — и газовые камеры, и ему приходится вставать, и идти в гостиную, и зажигать свет возле дивана, и смотреть в окно на реку, но сколько бы он ни думал обо мне или о чем-то еще, ничто не помогает. Этот страх посещает Вильяма не так часто, как другие, но, когда посещает, его просто жуть берет.
И последний: он связан со смертью, с чувством ухода. Вильям ощущает, как почти уходит из мира, а поскольку в загробную жизнь он не верит, по временам его пронизывает ужас. Но обычно он не вылезает из постели, хотя порой все-таки вылезает, и идет в гостиную, и садится в большое бордовое кресло у окна, и читает книгу — он любит биографии, — пока не почувствует, что готов уснуть.
— И давно у тебя эти страхи? — спросила я.
Мы ходили в эту закусочную уже не первый год, и по утрам там всегда было полно народу; нам принесли кофе и немного погодя — четыре белые бумажные салфетки.
Вильям смотрел в окно на старушку с ходунками; ходунки были с сиденьем, и двигалась она медленно, сгорбившись, а полы ее пальто развевались на ветру.
— Пару месяцев, — сказал он.
— То есть они начались без всякой причины?
Вильям взглянул на меня своими темными глазами из-под разросшихся бровей:
— Думаю, да. — Затем откинулся на спинку стула и добавил: — Наверное, я просто старею.
— Возможно, — сказала я. Но он меня не убедил. Вильям всегда был для меня загадкой — и для наших девочек тоже. — А ты не хочешь к кому-нибудь обратиться насчет своих страхов? — нерешительно спросила я.
— Боже, нет, — сказал он, и эта его черта не была для меня загадкой, я ожидала такого ответа. — Но это ужасно, — добавил он.
— Ах, Пилли, — сказала я, так я ласково называла его в далеком прошлом. — Я очень тебе сочувствую.
— Зря мы тогда поехали в Германию. — Вильям взял со стола салфетку и вытер нос. Затем — почти рефлекторно, как он всегда это делает — пробежал пальцами по усам. — И уж точно зря мы поехали в Дахау. Мне все мерещатся эти… эти крематории. — Он бросил на меня взгляд. — Ты правильно сделала, что не пошла внутрь.
Когда мы были в Германии, я не заходила ни в газовые камеры, ни в крематории, и меня удивило, что Вильям это запомнил. Я уже тогда понимала, что лучше мне на такое не смотреть, вот и не заходила. Годом ранее у Вильяма умерла мать; мы отправили девочек в летний лагерь на две недели, им было девять и десять, а сами полетели в Германию; моим единственным условием было, чтобы мы летели разными рейсами, так сильно я переживала, что мы оба разобьемся и девочки останутся сиротами, хотя позже я поняла, как это глупо, ведь мы могли разбиться и на автобане, пока мимо со свистом проносились машины, — так вот, мы полетели в Германию, чтобы разузнать что-нибудь об отце Вильяма; как я уже говорила, он умер, когда Вильяму было четырнадцать, умер в больнице Массачусетса от перитонита, ему удаляли полип в кишечнике и случайно проткнули стенку толстой кишки, от этого он и умер. Полетели мы еще и потому, что за несколько лет до этого Вильям получил большое состояние, оказалось, его дед нажился на войне, и, когда Вильяму исполнилось тридцать пять, ему достались деньги из трастового фонда, и это не давало ему покоя, и вот мы вместе полетели в Германию повидаться с его дедом, тот был очень стар, и двумя тетками, они были вежливы, но холодны, на мой взгляд. У старика, его деда, были маленькие блестящие глазенки, он мне особенно не понравился. Невеселая была поездка.
— Знаешь что? — сказала я. — Думаю, со временем страхи исчезнут. Это просто период такой.
Вильям снова взглянул на меня:
— Хуже всего те, что с Кэтрин. Понятия не имею, с чем они связаны. — Вильям всегда называл мать по имени, даже когда обращался к ней. Не помню, чтобы он хоть раз назвал ее мамой. Внезапно он отложил салфетку и встал. — Мне пора, — сказал он. — Всегда приятно с тобой повидаться, Лютик.
— Вильям! И давно ты пьешь кофе?
— Уже много лет.
Он чмокнул меня, и щека у него была холодная, а усы немного колючие.