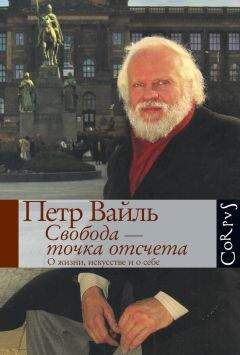— Значит, это твоя новая подруга? — спросил Роберта один из его соседей как-то воскресным вечером, после того, как наткнулся на них у вокзала.
— Нет, — ответил Роберт, — вовсе нет.
В ту ночь, лежа в постели, Роберт ломал голову над этим вопросом. Ему не нравилось слово «подруга», потому что оно подразумевало претензии на Кэтлин, которых, по его мнению, у него не было. Но и слово «друг» выглядело каким-то ущербным. Перелистывая в уме свой личный словарь, Роберт пришел к выводу, что не существует слова для обозначения человека, к которому испытываешь особую привязанность, не обремененную романтическими оттенками. Он поразился бедности языка. Кроме того, Роберт понял, что есть определенные действия и поступки, которые, будучи сами по себе спонтанными и приятными, отягощены вполне конкретными ассоциациями, за которые, по его убеждению, Кэтлин вряд ли поблагодарила бы его. Например, однажды утром, в день, когда Кэтлин собиралась приехать к нему в Бирмингем, она позвонила сообщить, что заболела гриппом и не приедет. Все побуждения и инстинкты требовали от Роберта незамедлительно послать ей огромный букет цветов с сочувственной запиской. Но что, если она воспримет этот поступок превратно? Что, если другие женщины в ее доме увидят цветы и начнут над ней подшучивать? Одной мысли смутить ее или переступить неоговоренную (а потому размытую) грань, которая отделяла дозволенное от недозволенного, оказалось достаточно, чтобы не делать вообще ничего. Как выяснилось, большую часть дня Кэтлин провела в постели, втайне надеясь, что ей доставят огромный букет цветов с сочувственной запиской, и она была всерьез, пусть и не показав того, обижена мифической невнимательностью Роберта. (Однако она так и не смогла признаться ему в этом из страха переступить все ту же неоговоренную грань.)
Они редко целовались и обнимались — обычно только при встрече и расставании или в знак благодарности при обмене подарками.
Объятия всегда были краткими, хотя оставалось непонятным, кто первым их прервал; поцелуи были всегда в щеку, а не в губы, но оставалось непонятным, кто так решил. Роберт думал про себя: «Я бы не стал целовать ее в щеку, если бы она подставила губы», а Кэтлин думала про себя: «Я бы подставила губы, но он всегда так поспешно целует в щеку». Но тем не менее они дорожили этими мгновениями, несмотря на все свое смущение и робость.
За все то время, что они провели в гостях друг у друга, они ни разу не спали в одной постели. У себя дома Роберт ночевал на диване в гостиной, а Кэтлин спала на его кровати; у себя же дома Кэтлин спала на раскладушке в столовой, а Роберт спал на ее кровати. Таким образом обоим был обеспечен крепкий ночной сон, а опасность, что тот или другой затеет нечто недоброе, — сведена к нулю. Иногда Роберт, лежа без сна на диване, в три часа ночи ловил себя на мысли, что было бы гораздо приятнее чувствовать рядом тепло Кэтлин, слышать ее тихое дыхание, легонько поглаживать ее руки, когда она спит. А иногда Кэтлин, лежа без сна на раскладушке и наблюдая, как светлеет за окном, ловила себя на мысли, что было бы гораздо приятнее знать, что рядом Роберт и можно мягко прижаться к его телу в первые трепетные минуты сна, или, проснувшись мертвенно тихим поздним воскресным утром, увидеть рядом знакомое лицо. Без всякого сомнения, такие мысли посещали обоих; но это не мешало им в глубине души считать, что они поступают правильно.
Как-то раз, на втором или третьем месяце их дружбы, в одни из выходных из Суррея приехали близкие друзья Роберта. Они недавно поженились и в Бирмингем прибыли, чтобы навестить родственников, живших неподалеку. Они позвали Роберта встретиться в воскресенье вечером и посидеть где-нибудь, и совершенно естественно, что пригласили и Кэтлин. В те дни у Кэтлин была запарка с работой, до среды ей нужно было закончить и набрать на компьютере главу из диссертации, но она понимала, что встреча эта очень важна для Роберта (как и для нее), и ей обязательно надо познакомиться с его ближайшими друзьями, поэтому в субботу вечером она специально приехала из Лестера.
Подобные посиделки зачастую распадаются на два диалога: Роберт обнаружил, что в основном разговаривает с Барбарой, а Кэтлин увлеклась долгой и обстоятельной беседой с его старым школьным другом Николасом. Беседа их текла ровно, они говорили тихо и серьезно, склонившись голова к голове, тогда как Роберт с Барбарой то и дело прерывались в своем разговоре, паузы становились все длиннее, по мере того как общие темы сходили на нет. И вот, чтобы как-то заполнить затянувшееся молчание, Барбара заметила:
— Очевидно, вы с Кэтлин очень близки. Странное утверждение, если учесть, что за весь вечер они с Кэтлин не перебросились и парой слов, но Роберту все равно стало приятно.
— Да, это так.
— Ты давно с ней встречаешься?
— Да мы вовсе не «встречаемся», — объяснил он, улыбнувшись ее наивности. — Мы не спим друг с другом и не делаем многого чего еще, что обычно делают пары.
— Понимаю, — сказала Барбара с некоторым удивлением. — Значит, вы просто добрые друзья.
Роберт задумался над этими словами.
— Какое странное выражение, — сказал он. — Какое-то неполноценное, какое-то принижающее. Это короткое слово «просто», оно ужасно. Словно отношения без секса являются более примитивными, более поверхностными. Мы с Кэтлин всегда думали, что как раз наоборот. Если мы видим двух людей, занимающихся каким-то совместным делом, мы всегда спрашиваем: «Как ты думаешь, они добрые друзья?» — и если эти двое явно не получают удовольствия от общества друг друга, то ответ обычно: «Нет, просто любовники».
Барбара рассмеялась.
— Понимаю. Видишь ли, именно это я и имела в виду, сказав, что вы очень близки. Вы понимаете друг друга. Вы одинаково мыслите.
— Да, полагаю, что так.
После этого разговор вернулся на прежний запинающийся, непритязательный уровень, и они обсудили перспективы карьеры Барбары, плохую работу общественного транспорта в Суррее и возможность возведения пристройки к дальней спальне. Но большую часть времени они молчали. Тогда как Кэтлин с Николасом продолжали беседовать с неослабевающей увлеченностью.
Время близилось к полуночи, когда Роберт с Кэтлин узкими улочками возвращались домой. Между ними установилось странное молчание. Пару раз Кэтлин пыталась завести дружеский разговор, но ответом были лишь односложные реплики и сарказм, и тут она испугалась, что так и ляжет спать — не получив объяснений, кроме того, ей хотелось поговорить с Робертом о его друге, задать несколько вопросов. Поэтому она спросила:
— Ты на меня за что-то сердишься?
— Нет. Я никогда на тебя не сержусь. Ты же знаешь.
Так оно и было, до сих пор.
— Ты сегодня очень молчалив, только и всего. Просто обычно в такой вечер мы бы сейчас болтали об этой встрече, обсуждали ее.
— Разве?
— Да.
Еще несколько шагов в молчании.
— Если хочешь знать, на этот раз, похоже, говорить не о чем.
— Неужели? — Она остановилась и повернулась к нему. — Ты никогда не рассказывал мне об этом своем друге, ты никогда не рассказывал мне о том, через что он прошел. Парню по-настоящему надо с кем-то поговорить. Что случилось с вами обоими, почему вы никогда не разговариваете друг с другом?
— Я не так часто его вижу, — жалко ответил Роберт. — Да и вообще, что ты имеешь в виду? Что он тебе рассказал?
— О своей депрессии. Неужели ты с ним об этом не разговаривал? Он проходит курс лечения. Ни с кем ни о чем не делясь, он отпрашивается с работы и… в общем, это началось после смерти в прошлом году его сестры, уж об этом ты должен знать, а затем он словно потерял веру. Он посещает собрания квакеров… Пару месяцев назад он был на грани самоубийства.
— Что, Ник? Не говори ерунды. Он никогда бы не сделал ничего подобного.
— Господи, да он сам мне сказал. Он забрался на самую верхотуру многоэтажного жилого дома на юго-востоке Лондона и чуть не бросился вниз. Ты хочешь сказать, что он тебе не говорил? — Кэтлин недоверчиво покачала головой. — Ох уж эти мужчины. Господи! Вы что, не умеете разговаривать друг с другом? Вы такие зажатые.