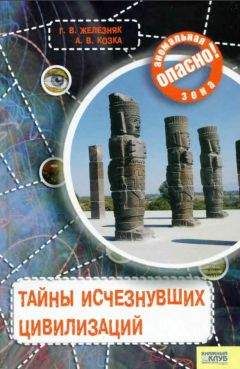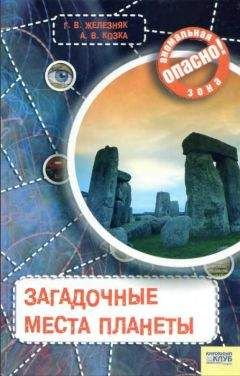На улице выпал первый снег, и кажется, что это навсегда. Крыши, земля, голые деревья застыли в белом одеянии. Нет ни единой птицы, стоит тишина, не считая глухого звука падающих с веток комков снега. Во́роны черными пятнами, словно вырезанные ножницами, выделяются на белом снегу; они сидят на крышах эсэсовских домов, кружат по спирали вокруг дымящихся труб. Ты больше не чувствуешь своих пальцев. Ты больше не чувствуешь ног. У некоторых пальцы на ногах почернели, их обжег холод. Если ты работаешь или долго стоишь на улице, уголки твоих глаз замерзают. Когда ты смыкаешь веки, ты не решаешься их больше открыть, боясь разорвать себе роговицу. С крыш падают сосульки с острыми, как у кинжала, концами.
Ты постоянно думаешь об Appell. На тебе платье и куртка, а на улице – ты не знаешь – минус пятнадцать или минус двадцать, может быть, температура упала еще ниже. При подъеме темно, ты стоишь ровно, притворяешься стелой в свете оранжевых прожекторов, которые будут включены до рассвета. И это напоминает тебе день прибытия в лагерь, твое неведение. Ничто не изменилось. Ты считаешь, что что-то знаешь, но все, о чем ты узнаешь, порождает новые вопросы, расширяет твое поле неведения. Итак, какой будет эта зима? Ледяная земля замораживает твою обувь, минута за минутой замораживает твои ноги, поднимается к спине, замораживает позвонки поясницы, поднимается по позвоночнику, сковывает шею. Ты засунула под платье газетную бумагу, тебе это стоило хлеба, но ты по-прежнему дрожишь. Если Aufseherin надавит рукой тебе на грудь, если от нажатия зашуршит бумага, если она где-нибудь вылезет, если она упадет на землю, ты будешь проклинать себя, что не отдалась холоду: это прямая дорога в бункер. Как только немка проходит мимо тебя и твоих подруг, вы группируетесь по трое или четверо, как «овечки», инстинктивно повинуясь закону теплопередачи. Вы образуете компактный круг, вы дышите на свои окоченевшие пальцы. Но это длится недолго, возвращается надзирательница, а вы не имеете права собираться в группы, дышать на свои пальцы, вы – стелы, ваша поза хорошо продумана. Вы временно разъединены, каждая выбирает для себя индивидуальную стратегию. Маленькие прыжки. Еле заметный бег на месте. Чуть позже вы снова начнете все с начала.
– А я постоянно шевелю пальцами на ногах, чтобы по ним циркулировала кровь.
– Я иногда покусываю себе щеки, язык, так не даю себе заснуть.
– А я тру Виржинию по спине, а потом она меня. Если этого не делать, я трясусь до кончиков пальцев.
– По ту сторону стены есть каток.
– Это озеро! Дети, что там катаются, наверняка из Фюрстенберга.
– Я обожала кататься на коньках. Мама подарила мне пару белых коньков с черными лезвиями, а на Рождество мы выписывали с ней пируэты на озере в Анси!
– Адель, дай догадаюсь: твоя мать стала профессиональной фигуристкой? А ты получила медаль на Олимпийских играх? Ты уже натянула коньки, Пиноккио?
– А кто видел замерзшее озеро?
– Я, – говорит Мари-Поль, – ребятишки пересекали озеро наперегонки, создавая такой шум, как будто рвется бумага.
– А я больше не пойду на Appell. Я спрячусь, а потом пусть будет что будет.
– В любом случае, с наступлением холода больше не воняет мочой и дерьмом, и то хорошо.
– Крематорий работает почти без остановки, вы видели? Холод убивает.
– Зиму придумали нацисты.
Мила вдыхает. «Я хочу выстоять в мороз, стоять прямо и твердо, как сосновая иголка. Я хочу быть зеленой и крепкой. Я хочу сберечь себя до возвращения света, замедлить биение сердца, сделать последние запасы свежего и чистого растительного сока, я хочу быть готовой к продолжению, если таковое будет. Хочу выйти замуж за холод, хочу быть зимой, чтобы ускользнуть от него, как тот принц из сказок братьев Гримм, который спрятался в комнате своего врага, где стал невидимым. Я принимаю холод, снег, обжигающий пальцы мороз при температуре ниже минус десяти, я всегда к этому готова. Я хочу быть холодом, жить вместе с ним без вражды. Приручить его. Я вдыхаю, набираю в легкие воздух, задерживаю дыхание, он опускается, поселяется во мне и все замораживает. И он находит приют в легких Джеймса в форме маленьких груш. Заполняет его альвеолы. Переполняет их и замораживает».
Мила стучится в Kinderzimmer. Сабина открывает дверь и остается в проходе. «А, это ты. – Сабина смотрит Миле в глаза. – Так холодно, – говорит она, – так холодно, даже улитки обледенели». Она берет руки Милы в свои, и Мила видит в ее глазах то, что Сабина не может произнести. Джеймс меньше улитки. Холод забрал Джеймса.
– Мне так жаль…
Посмотреть на Джеймса. Сейчас.
– Где он?
– В Keller, в морге.
– Я хочу его видеть.
– Ты не можешь. Это ни к чему, морг – ужасное место.
– Я хочу его видеть.
– Я позаботилась о нем, о том, чтобы у него было хорошее место, понимаешь. Для последнего пути.
– Как это?
– Доверься мне.
– Я хочу его видеть, хочу увидеть его сейчас.
Keller представляет собой насыпь с маленькой дверью возле лагерной стены. Сабина говорит, что все умершие ждут здесь, перед тем как попасть в крематорий. Она знает Keller наизусть, она ходит сюда каждый день.
– Ты можешь передумать…
Мила не шевелится. Она ждет, когда дверь откроется. Она ничего не ощущает, даже боли. Она оглушена.
Сабина открывает дверь. Отвратительный запах разложившихся тел, Милу тошнит, но нечем. Они поднимаются по нескольким ступенькам. Обнаженные тела. Десятки тел. Задубелые ноги, руки торчат в разные стороны. Разлагающиеся головы, изуродованные тела. На этажерке коллекция золотых зубов.
– Он там, – говорит Сабина.
Там. Да. Там единственное тело женщины с закрытыми глазами, с очень белой кожей, она словно заснула. У нее вытянуты ноги, руки лежат вдоль тела. Рядом с ее грудью – маленький комочек, который она придерживает плечом. Они лежат друг к другу лицом, она и ребенок. Это Джеймс. В руках этой женщины.
– Ее зовут Нина, – говорит Сабина, – она русская. Это мать двухнедельного ребенка, Саши.
Джеймс и Нина выделяются из массы трупов. Белые, почти голубые, как тело Христа, снятого с креста, с «Пьеты» Эль Греко [86], Мила где-то видела эту картину. Но то, что она видит перед собой, – это несуществующая картина.
– Мила…
Картина. Как называется эта голубизна?
– Мила, можно поменять детей. Я скажу, что умер Саша, а не Джеймс, и ребенок Нины станет твоим сыном.
Мила едва слышит. Ее взгляд прикован к женщине и ребенку, она машинально говорит:
– Это почти икона. Как это – моим сыном?
– Я усыновила десятерых, чьи матери умерли, семеро из них потом умерли, я больше не могу их терять. Возьми Сашу.
Эта чудовищность выводит Милу из оцепенения. Она пристально смотрит на Сабину. Сабина предлагает ей живого ребенка, после того как ее ребенка отдала этой русской женщине?
– От чего она умерла?
– Не знаю.
– А Джеймс?
– От холода. От голода. Я даже не знаю.
Мила наклоняется над лбом своего малыша. «Джеймс, мой маленький Джеймс. Мой открытый и сбивающий с толку аккорд: ля до до ми фа#, который требует продолжения, аккорд, который призывает к решительности, это имя начала. Возможность тебя назвать была неимоверной радостью, еще большей, чем та, когда я увидела твое лицо, чем радость быть матерью. Назвать что-либо, что не принадлежит лагерю. Произнести, решить, что ты Джеймс, сказать: “Джеймс, прижмись к моей шее” – и перепрыгнуть через высокие стены».
– Мила, пора уходить.
И в этот момент сжимается горло: ты понимаешь, что это последний раз, что ты больше никогда не увидишь это крошечное тело. А еще тебя пронизывает ужас от того, что языки пламени будут обгладывать плоть до костей. «Потерять кости». Тебя разрывает от чувства, что отнимают самое сокровенное. Может, это и есть любовь?
– Мила…
– Да, уходим.
– Возьми ребенка этой женщины. Возьми Сашу.
– Дай мне ночь подумать.