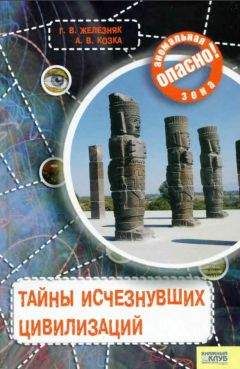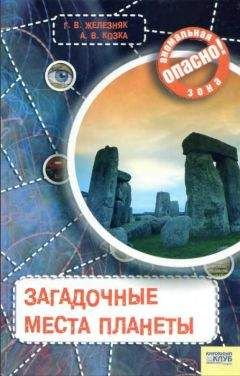Тереза и Мила сидят на нарах перед супом. У Милы в голове пустота и никаких образов. Она смотрит на дыру в своем ботинке. На ее форму, на вытрепавшиеся нити по ее краю. Она вспоминает: она знала, что Джеймс умрет. Она это знала с самого начала, он был мертв с самого начала, просто она на некоторое время об этом забыла, все возвращается на круги своя. Сквозь дыру видна черная от грязи нога, а может, это от дерьма. Глупо, что она забыла. Что она все же привязалась к нему. Мила медленно качается вперед-назад.
– Он мертв. Он мертв. Мертв. Совершенно мертв. Мертв. Мертв. Мертв.
Тереза берет Милу за руку. Слезы градом льются из ее широко открытых глаз. Вокруг Луиза, Мари-Поль, Адель переживают ее молчание, ее оцепенение.
Когда они остаются вдвоем, лежа на нарах, Мила рассказывает о Саше. Она говорит о нем отрешенным голосом, очень усталым, как будто не было разговора с Сабиной, как будто это был мираж. Она говорит, что не знает, возможно ли любить другого ребенка, быть матерью другому ребенку.
– Мила, ты не знала, любишь ли ты Джеймса, пока не родила его. Возьми Сашу.
– Тереза, сколько это будет длиться? – вяло отзывается Мила. – Саше две недели, через два с половиной месяца, а может быть и раньше, он умрет от холода, голода, дизентерии или крыс. Сколько я еще поменяю детей, сколько трупов, сколько Джеймсов я буду оплакивать, пока мы не выйдем из лагеря?..
Выйдем из лагеря… Тереза хорошо услышала эти слова, слетевшие с Милиных уст. Она запомнит их. Это произошло раньше, чем она ожидала. И при таких шокирующих обстоятельствах. Надежда выжить.
Она не знает, что такое бездействие. Один ребенок заменяет другого. В Kinderzimmer Сабина вручает Миле Сашу. «Саша, ты – Джеймс. А я – твоя мама». Саша смотрит на Милу. Ни крика, ни плача. Саша не удивляется склонившейся над ним новой женщине. Все младенцы Равенсбрюка знают: нечего и думать, что когда-нибудь над ними склонится ангел, приложит палец к их губам (ямочка над верхней губой и есть этот след) и скажет: «Забудь!» – после чего жизнь начинается или возобновляется и необходимо все учить заново.
Она раздевает его возле печи и внимательно рассматривает. Пупок. Половой член. Яички. Две ноги. Две стопы, десять пальцев на ногах. Правая рука, пять пальцев. Левая рука, пять пальцев. Два глаза, две ноздри, два уха. Теперь она смотрит на него самого. То есть сравнивает его. Глаза голубые, а не черные. Голова лысая, а не темноволосая. Ямочка на левой щеке, более полные губы. Она узнает его. Дает ему шанс на особое существование. Но она будет называть его Джеймсом, а не Сашей. Джеймс – это только ее. А также ее подарок для него.
На этот раз она знает: у нее есть три месяца, не больше, потом жизнь угасает. Мила считает. Девяносто один день минус четырнадцать – семьдесят семь дней отсрочки, которые закончатся в середине февраля, в конце зимы. И каждый день, когда она идет в Revier, в Kinderzimmer, она вычитает один день. Минус семьдесят шесть до конца. Минус семьдесят пять. Минус семьдесят четыре. «Каждый день может быть для него последним», – говорит она Терезе. Та отвечает, что за колючей проволокой дни считаются по такому же принципу, как и везде: каждый день – это шаг по пути к отведенному тебе сроку. Мила постоянно об этом забывает: в Равенсбрюке все так же, как и вне его. И пес ее не укусил.
Говорят, на улице двадцать градусов ниже нуля, и не хватает угля. В Revier толпятся больные. Перед моргом один на другом громоздятся трупы, одеревенелые и промерзшие. Keller собирает тела перед печами крематория. Недавно запустили еще одну печь, и теперь день и ночь высоко в небо поднимаются красные языки пламени. Красная армия наступает, и все больше заключенных переводят из других лагерей, и все больше их умирает здесь от холода. Женщины пешком приходят в Равенсбрюк, изнуренные, харкающие кровью. Сотни пали по дороге, растянувшись на снегу, приконченные пулей в затылок. Есть даже еврейки.
Двадцать градусов ниже нуля; запасы овощей, сложенные рядом с кухней, замерзли. Больше нечего воровать, все, что можно укусить, твердое как камень и приросло к целой глыбе. Травы больше нет. Цветов тоже. Тереза подобрала с земли кусочек брюквы, нагрела в ладонях. Укусила и сломала резец. Она крепко держала свой зуб, погрузив его корнем в десну, в надежде, что зуб снова прикрепится, снова приютится в красной нише. На ее лице отпечатался ужас: потеряв зуб, она в один миг стала старой. Зуб не прикрепился и выпал из рыхлой массы. Тереза увидела кровь на льду и забросила зуб в окно.
Двадцать градусов ниже нуля, вечер двадцать четвертого декабря. Рождество, к которому, как к горизонту, стремились последние несколько месяцев, стремились, как к вероятному окончанию войны: без всяких сомнений, еще до Рождества союзники соединятся в центре Германии. Они поверили в возможность Рождества со свечами, настоящим столом, елкой с разноцветными огоньками, платьями и губной помадой. «Рождество во Франции, Рождество дома, с выдержанными ликерами, собранными моим отцом», – говорила Адель, и она слышала позвякивание своих серег и звон бокалов. И на протяжении всего этого времени в лагере, когда часы, дни, месяцы смешивались и повторялись бессчетное количество раз, в календаре фиксировались определенные этапы перед Рождеством как перед последним пределом: смена сезонов – двадцать первое марта, двадцать первое июня, двадцать первое сентября. Они говорили себе, что не переживут в Равенсбрюке весну 1944-го; они говорили себе, что не переживут лето, а особенно зиму в этом собачьем краю. А еще дни религиозных и светских праздников: Пасха, первое мая, одиннадцатое ноября [87]. Всякий раз женщины надеялись, что у дат будет смысл, они ждали знак, как они ждали знак, который указывал бы на пересечение франко-германской границы, когда ехали сюда в конвое на поезде. Они дали волю своему воображению и представили семейные ужины, прогулки на лодках, вишню в цвету, огонь в камине. И поскольку пересечение границы и даты оказались событиями, не оправдавшими ожиданий, время потекло равномерно, слившись в размытую массу дней. Рождество пройдет в Равенсбрюке. Мила смотрит на Адель, которая в прострации сидит на тюфяке, закрыв глаза ладонями, поглубже пряча в свою голову все неудавшиеся фантазии. Наступило Рождество, а она не села в карету, запряженную своим любимым конем Ониксом. Никто не желает обмениваться мечтами. Горизонт – это настоящее, минута, секунда; об этом знали и раньше, просто с продвижением союзных держав позволили себе поддаться безумным прогнозам; им стоило бы держаться за настоящее. И Мила стала на якорь в нем; вот уже в течение нескольких месяцев она боится продолжения, ни о чем не знает, все игнорирует и ни в чем не уверена. Минус сорок семь дней. Минус сорок шесть. Те женщины, кого разочарование не подавило, будут играть в Рождество. Будут его праздновать – заявляют они. Им удается сорвать с уст улыбки и организовать Kommandos, которым поручили заниматься организацией мероприятий, украшением блока, изготовлением подарков для сотен детей, скитающихся по лагерю, которых они даже не знают. В итоге: рождественская елка из сосновых веток, подобранных женщинами-лесорубами; снежинки из кусочков ваты, украденной в Revier; гирлянды из витого шнурка, добытого в Betrieb, золотые шарики из проволоки «Siemens», под ветками рождественские ясли из хлебного мякиша, двенадцать персонажей размером с большой палец, форму которым придали с помощью пальцев и заостренной палочки, – это сколько же дней без хлеба? Stubowa закрывает на это глаза, немцы пьют и веселятся в эсэсовских домах, и женщины поют во все горло и на всех языках – колыбельные, национальные гимны, псалмы и молитвы. Они танцуют, читают Верлена, Шекспира, играют сцену из пьесы «Смешные жеманницы» [88], а вместо банкета декламируют рецепты запеченной индейки, обильно политой маслом, со всевозможными гарнирами, пюре из каштанов, сельдерея, жареного картофеля, который трудно найти даже во Франции, где продовольствие строго нормировано. Женщины раскрывают винную карту. На передвижном столике рядом стоят эльзасский пирог, тирамису и нормандский торт. Передают по кругу красиво написанное меню с бесконечными фруктовыми шербетами и ликерами. И Мила празднует, хотя она и не принимала участия в подготовке, поскольку отдает все свое время Джеймсу, отдает всю свою добычу, чтобы достать уголь, одеть его, накормить вареным картофелем. На Рождество ты – мать, как и во все остальные дни. В какой-то момент все начинают обмениваться подарками: носовыми платками, которые вышивались с огромным терпением, разными украшениями из галалита, камня, стекла, дерева, резными крестиками и четками. Для Джеймса одна женщина с розовой карточкой связала маленькую шапочку. Поток бесконечных теплых слов прерывает шумный вход Blockhowa: «Ночная поверка».