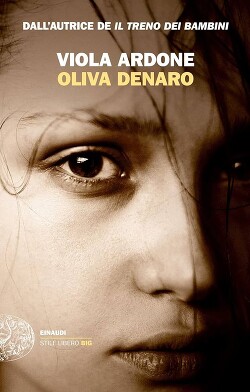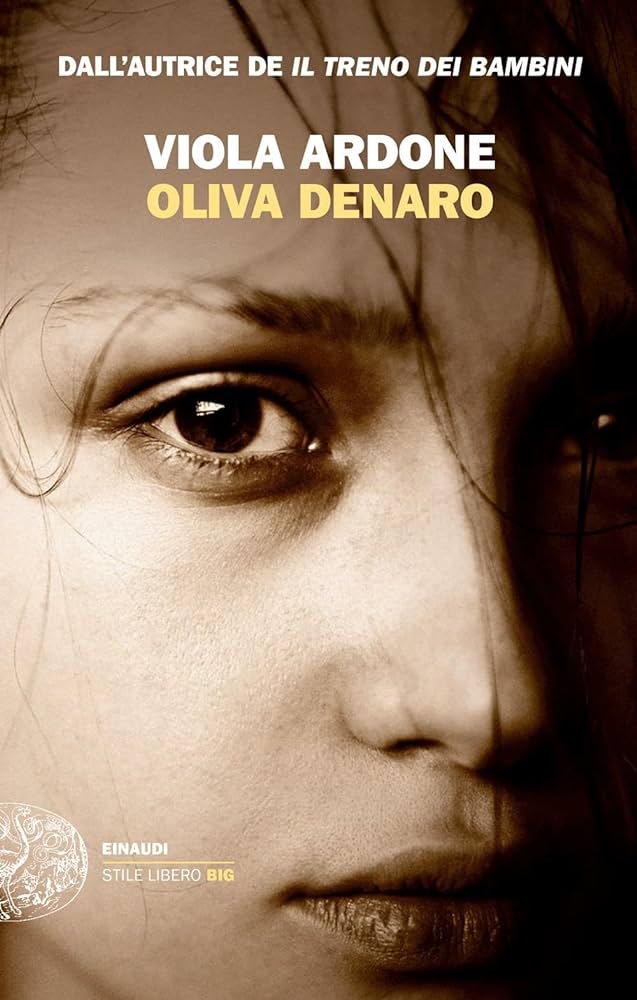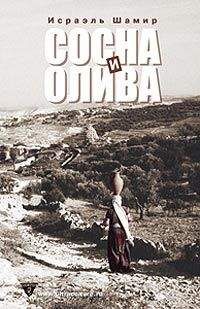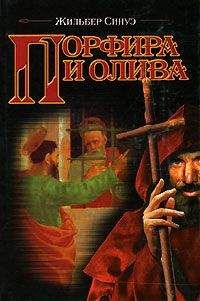У учительницы начальной школы, синьорины Розарии, мы с Лилианой были любимицами: она стала чемпионкой по умножению, зато я побила её в синтаксическом разборе, и нам, как самым старательным, прикололи на белые халатики по звезде. Правила получения звёзд были таковы: читать без запинок, писать без помарок, считать в уме, а не на пальцах. В учёбе мы с Лилианой шли на равных, но она знала кое-какие политические словечки, подслушанные на отцовских собраниях, и, конечно, задирала нос. Я тоже решила подтянуться: учительница как раз принесла из дома несколько книг, поставив их на полку в глубине класса, чтобы мы могли почитать, когда захотим. Страницы в этих книгах были белые и гладкие, почти скользкие на ощупь, с цветными иллюстрациями, на которых животные разговаривали, совсем как люди. Но говорящие животные мне не по душе, поскольку вся их прелесть именно в том, что они молчат. Как мой отец.
А вот словарь мне понравился: в нём было столько неизвестных мне доселе терминов, нужных, чтобы сформулировать то, что человек имеет в виду, но не может объяснить! Как-то, забыв дома тетрадку по математике, я встала и сказала: «Синьорина, простите, я предала тетрадь забвению», – просто чтобы повторить новое выражение. А она, вместо того, чтобы отчитать меня, дала ещё одну звезду. И сказала, что культура спасает нас и уводит к новым берегам. Хотя я-то никуда идти не собиралась, мне просто понравилось, как звучит эта высокопарная фраза.
Когда синьорина Розария в конце четвёртого класса от нас ушла, книжки с картинками сложили в коробку и унесли. Словарь тоже исчез – со всеми новыми терминами внутри. К счастью, я успела переписать некоторую часть в тетрадку и могла щеголять ими, когда хотела. Люди, слышавшие это, поглядывали на меня с некоторой робостью, будто я какая аристократка. Все, кроме матери: когда она спросила, как мне новый учитель, заменивший синьорину Розарию, я ответила:
– Докучливый, – за что немедленно получила пощёчину и нагоняй по-калабрийски:
– Чтобы я больше таких вещей не слышала! Боже мой! Ты же девочка!
4.
Новый учитель был уже стар, звался синьор Шало́, а в школу по утрам приезжал из столицы на автобусе. Он много лет преподавал в Риме, на «большой земле», а теперь, ближе к пенсии, вернулся сюда, на Сицилию. Рассказывал, будто обедал ни больше ни меньше как с самим министром просвещения, а поскольку напоминал он об этом по крайней мере раз в день, мы прозвали его «синьор Минестроне[4]».
Грамматике, как синьорина Розария, Минестроне учить нас даже не пытался. В первый же день он достал из потёртого кожаного портфеля тоненькую книжку с серыми, без картинок страницами:
– Пишите, девочки, – и принялся диктовать детский стишок «Прощальные слова белого халатика». Этот стишок, написанный каким-то его другом, так понравился Минестроне, что он решил задать выучить его наизусть к ежегодному экзамену.
Любовь моя, печальный день сегодня,
ведь ты уходишь от меня!
Должно быть, ты не чувствуешь, как больно
страдающему сердцу моему
остаться одному.
Согнувшись над партами, мы записывали в тетради строчку за строчкой. Стишок был сочинён от лица белого халатика: его печалило расставание с девочкой, которая должна была перейти в среднюю школу и сменить его на другой халатик, чёрный. И вот перед разлукой он решил дать хозяйке несколько советов:
Боюсь я, детка, для тебя
пришла опасная пора!
Советы халатиков мне не по душе: напоминают сказки про говорящих животных. Минестроне откашлялся и продолжил диктовать, периодически переводя взгляд с одной ученицы на другую, словно надеясь вовремя предупредить о нависшей над всеми нами опасности.
Стань добродетели сосудом;
не будь предметом пересудов;
дурных компаний сторонись;
журналы, книги про влюблённость
сожги немедленно дотла:
кому, скажи, нужна учёность,
коль ты невинность не спасла?
– Синьор учитель, «учённость» с двумя «н»? – поинтересовалась с задней парты Розалина, пока мы с Лилианой возмущённо переглядывались через весь класс. – А «невинность»?
– Не беспокойся, Розалина, потерять невинность из-за учёности тебе не грозит, – вырвалось у меня.
Одноклассницы дружно рассмеялись, а Минестроне бросил диктовать и направился к моей парте. Чтобы немного умаслить его, пока не поднялся скандал, я решила воспользоваться привычным трюком:
– Простите за неуместное острословие, синьор учитель.
– Чтобы быть порядочной девушкой, мало знать пару умных слов. Такое повторить может даже дрессированный попугай, если я его натаскаю. Вот они, плоды дурного обучения, – заявил он, кивнув на пустую полку, где раньше стояли книги синьорины Розарии, и снова принялся диктовать:
Серьёзней относись к ученью,
забудь про комиксы, кино,
ищи не танцев, развлечений...
Мой белый халатик после начальной школы пошёл на тряпки, которые мать приготовила для полировки четырёх серебряных столовых приборов, привезённых из Калабрии. Обнаружив его останки у себя в руках во время еженедельной уборки, я будто услышала голос старого учителя: «Стань добродетели сосудом; не будь предметом пересудов...»
Летом мать измерила мне плечи, талию и бёдра и скроила из чёрной ткани новый халатик. Когда он был готов, мать помогла мне его надеть, опустилась на колени и велела покружиться, чтобы проверить, ровно ли подогнут подол, потом поднялась и взяла меня двумя пальцами за подбородок:
– Я сшила его по всем правилам высокого искусства. Так что советую блюсти чистоту.
Халатика мне хватило на целых три года: отчасти потому, что я бережно с ним обращалась, отчасти потому, что мать сшила его немного на вырост.
После экзаменов за третий класс средней школы я спросила, могу ли продолжить учиться, но мать лишь покачала головой.
– Что с ней делать, с этой учёностью? – бросила она отцу. Тот, не ответив, ушёл копаться в огороде. А через неделю показал ей бумагу со своей подписью, большими кривыми буквами: он записал меня в педагогическое училище.
– Если твоя старшая дочь не заклеймена позором, то только благодаря мне! – воскликнула мать.
– Через четыре года Олива, получив свидетельство, сможет работать учительницей и не зависеть... – начал отец.
– От кого это? – перебила она.
– От семьи, от мужа...
– Да как она вообще найдёт себе мужа, если из книжек не вылезает? – отец молча развернулся и пошёл кормить кур, а она бросилась следом, вопя по-калабрийски: – Мужчина, который не может приглядеть за своими женщинами – да какой он вообще мужчина?! Ты не лупара, ты овца! Баран безмозглый!
Вскоре мы узнали, что синьора Шибетта записала в то же училище свою младшую дочь, Мену. Наутро мать подпорола подол халатика, распустила спрятанные в швах припуски и сметала их с подкладкой. Увидев, сколько чёрной ткани скрывалось в этих потайных карманах, я решила, что она, должно быть, с самого начала надеялась на продолжение моей учёбы. А может, просто была женщиной предусмотрительной.
5.
Когда я была ещё совсем маленькой, отец часто уходил один в поля собирать улиток, а когда возвращался, я издалека замечала его светлые, сияющие на солнце волосы: он казался мне огромным и сильным, словно сказочный великан. Как-то утром я проснулась на рассвете, пока остальные ещё спали, и сказала, что хочу пойти с ним. С тех пор я стала его помощницей. Мы ходили, разглядывая листья, и если он видел улиток, то дважды сжимал мою руку, едва-едва, потому что я то и дело нагибалась, чтобы сорвать ромашку. Потом закрывала глаза и беззвучно шевелила губами: любит, не любит, любит, не любит, любит.
А месяц назад, когда мы, надев резиновые галоши и взяв кто корзинку, кто ведро, уже были готовы были выходить, мать уставилась на меня так, будто видела впервые.