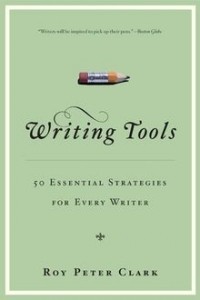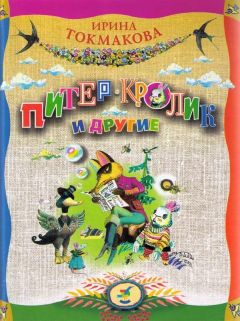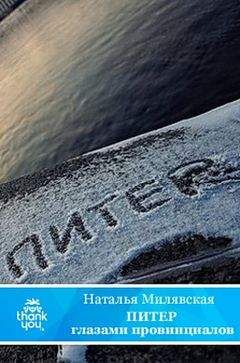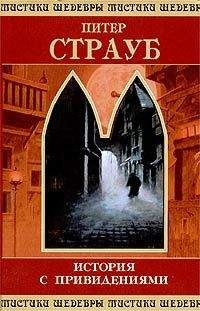— Пули попали сюда, в живот. Потом он убежал от охотника. Лучше было бы, если бы ему попали сюда, в грудь, в переднюю часть тела, вот в этот треугольник, тут находятся лёгкие, и чуть ниже — сердце. Тогда бы он умер сразу. Но получилось так, что ему удалось убежать. А собаки не смогли найти его. У нас в Дании, если животное подстрелили и оно убежало, вызывают собаку, натренированную на поиск по следам крови. Чтобы животное можно было усыпить, и оно не мучалось. Этого оленя собака не смогла найти.
— Откуда ты всё это знаешь? — спросила старшая.
— Когда-то я ходил на охоту. До вашего рождения.
Они обе посмотрели на меня. Очень серьёзно.
— А когда ты перестал охотиться?
Старшая продолжала задавать вопросы.
— Когда мама была беременна тобой. Однажды я вдруг понял, что больше не могу. Я охотился в море, с гарпунным ружьём, и подстрелил рыбу. В тот момент, когда я отрезал рыбе голову, мне вдруг показалось, что она похожа на тебя. С тех пор я больше не могу убивать животных.
— Но ты ешь животных.
Таковы уж дети, так уж они выстраивают свои мысли. С неумолимой логической последовательностью.
— Да, — сказал я, — я предоставляю другим людям возможность убивать за меня.
*
Домой мы возвращались через лес. Неподалёку от пляжа на земле валялась пустая пивная банка.
Младшая подняла её. Вылила последние оставшиеся на дне капли, отвернувшись, чтобы не вдыхать запах пива.
Через некоторое время Лиза вопросительно показала на банку.
Младшая только засмеялась в ответ.
— Она всегда так делает, — объяснил я. — С раннего детства. Когда она гуляет, она всегда подбирает какой-нибудь мусор и кладёт его дома в мусорное ведро.
Младшая подняла глаза на Лизу.
— Это чтобы сказать лесу «спасибо».
В тот вечер мы ужинали вчетвером. Я разрешил девочкам лечь спать попозже.
Лиза собралась уходить. И тут остановилась в прихожей.
— С самого детства, — сказала она девочкам, — когда я захожу в общественный туалет, я всегда стараюсь, чтобы там стало немного аккуратнее, чем было, когда я пришла. Поднимаю бумажку с пола. Или протираю раковину. Чтобы было хотя бы чуть-чуть лучше. Чтобы сказать туалету «спасибо» за то, что он есть. Так я себе это всегда объясняла.
Они с девочками посмотрели друг на друга.
Между ними состоялась встреча, встреча, в которой я тоже участвовал. Как если бы мы сидели под сканерами.
Этот день стал точкой отсчёта, импульсом, спусковым крючком. Мёртвый олень. Консервная банка. Разговоры. Ужин. Рассказ Лизы о том, что она делает, чтобы в туалете было немного чище, чем до неё. И за всем этим — смерть Симона.
Когда мы запустили этот механизм, то для нас, Лизы, девочек, да и для меня язык уже стал неважен. Осталось только взаимопонимание. Не имеющее отношения к словам.
Я проводил её до машины.
— В клинике сейчас много работы, — сказала она. — Тяжёлые истории. «Тёмная Дания».
Стоял конец июля. От заходящего солнца остались лишь отсветы, как от догорающего костра — где-то вдали, над вересковой пустошью.
— Однажды, — добавила она, — ты мне рассказывал, что всегда искал настоящие встречи с людьми. Сами собой они не случаются.
И она уехала.
* * *
Я позвонил ей на следующее утро. И всю неделю и ещё три недели подряд я каждый день ездил в клинику.
Это стало самым напряжённым учебным процессом в моей жизни.
Мы работали по десять часов в день, включая субботы и воскресенья.
Каждый день у нас было от пяти до восьми сеансов, после каждого — короткое обсуждение и составление отчёта, пока ассистенты готовили следующего пациента.
Сначала я решил, что клиника стала принимать во много раз больше людей. Потом понял, что по-другому здесь и не бывает. Что Лиза включила меня в свой обычный график.
Я увидел Данию, о существовании которой не имел никакого представления.
Первым пациентом был вполне взрослый мужчина, один из близнецов, мать которого страдала психическим расстройством. Она работала фармацевтом, и однажды, когда близнецам было три года, она забрала их из детского сада, дала им яд, задушила одного из сыновей подушкой, попыталась задушить второго, а потом сама приняла яд. Несколько лет спустя его отец женился снова, и он — оставшийся в живых близнец — очень полюбил свою новую маму, а через три года та тоже покончила с собой.
Мы с Лизой отправились за ним в глубь этой тьмы.
Лиза показала мне, насколько трудно работать с ранними травмами. Оставшийся в живых близнец в детстве ещё не так хорошо владел языком. Маленький мальчик не всё мог понять, а память не смогла зафиксировать и переработать никак не выраженный словами ужас. Мир, в который мы вошли, когда заработали сканеры и мы вступили в его сознание, был практически лишён ориентиров.
Я не ошибаюсь, когда пишу «лишён ориентиров». Пациент был высоким, подтянутым, красивым молодым человеком. Ещё наблюдая за ним до того, как включились приборы, я почувствовал его ум и цельность. Мы с Лизой начали сеанс. Лиза говорила с ним о его жизни, а в это время наши сознания сливались с его сознанием. Мне вновь показалось, что клиника исчезла — мы находились в мире другого человека.
Ландшафт вокруг нас полностью изменился. Сначала, пока он рассказывал о своём образовании и взрослой жизни, ландшафт этот был упорядоченным, словно парк с ровными, засыпанными гравием дорожками, ориентированными по сторонам света.
Но упорядоченность эта оказалась обманчивой. Она имела место лишь на поверхности. В следующую минуту парк исчез, и в пространстве стороны света смешались. Всё скрылось в тумане неструктурированного страха. Непонятно было, где верх, а где низ. Перед нами была бесконечная равнина непереработанной потери.
Туда мы вместе с ним и вступили. Лиза позволила ему вести нас, если так можно это назвать.
Я следил за ней, но она ничего не предпринимала, просто шла за ним. Она не описывала ни одно из явлений, возникавших на нашем пути, не пыталась направить его к какой-то цели. Она лишь время от времени, как будто бы из любопытства, спрашивала его: «А можно про это подробнее?»
Думаю, это был один из её принципов. Не вмешиваться. До какого-то момента — а потом внезапно вмешаться.
Мы приближались к концу, хотя я даже не догадывался об этом. Я был в холодном поту, мы на себе ощутили все симптомы отравления и воздействие на организм яда, которым мать отравила своих детей. И чувствовали мы не только нашего пациента, мы чувствовали муки обоих близнецов, страдания матери, совершенное безумие и отчаяние, определявшие её действия, — отражение всего этого мы увидели и прочувствовали.
Я оставался внутри только потому, что не хотел сдаваться. В этой картине для меня речь не шла о сочувствии. Не о том, чтобы помочь, поддержать и открыть своё сердце. Речь шла только о том, чтобы выжить.
Ближе к концу появились первые конкретные очертания.
Перед нами возникла какая-то воронка, как будто выход, и я увидел, как молодой человек направляется к ней.
Это было что-то вроде тоннеля. Зовущего, обещавшего освобождение.
Тоннель этот какого ассоциировался с сиреневым цветом. Если предыдущий пейзаж был бесцветным, что, как я начал теперь понимать, отражало страх и депрессию, то тоннель был сиреневый.
Я говорю «ассоциировался с сиреневым цветом», чтобы то, что мы видели, не казалось более конкретным и ощутимым, чем было на самом деле.
Путь к тоннелю ему преградила Лиза.
Я не могу сказать, что преградила физически. Ведь мы по-прежнему сидели на своих стульях в клинике. Хотя наша связь с собственными телами изменилась и ослабла, мы так и сидели каждый на своём месте.
Но воспринималось это — в сознании воспринималось — так, будто Лиза загородила ему дорогу.
— Что это? — спросил он.
Не уверен, что он спросил это вслух.
— Это путь, которым ушла твоя мать, когда умерла, — ответила она. — Ты был очень привязан к ней, очень сильно. Ты почувствовал, что она умирает, хотя и был совсем маленьким, ты всё равно понял это. И попытался пойти вместе с ней. И немало успел пройти.