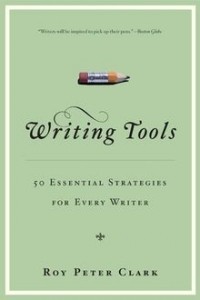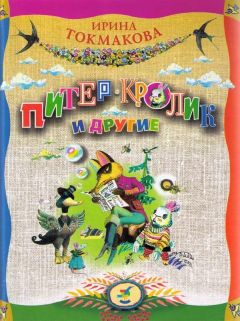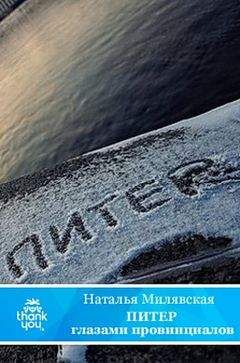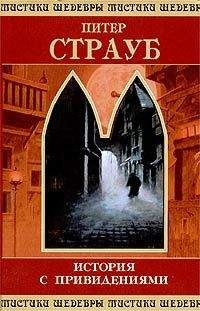Я добрался на место во второй половине дня.
Представитель похоронного бюро, это была женщина, отговаривала меня смотреть на тело — из-за множественных ожогов.
И всё же мне необходимо было взглянуть на него. Я знал, что, если не увижу его мёртвым, он будет всегда мерещиться мне в толпе прохожих.
Сотрудница похоронного бюро проводила меня в морг, который находился за часовней больницы.
Симон лежал в чём-то вроде ящика в огромном холодильнике.
Нас было двое — я и сотрудница похоронного бюро. Она выдвинула ящик и откинула белое покрывало.
Как он красив, подумал я. Он здорово обгорел. Но это нисколько не мешало увидеть, как он красив.
От него исходил запах дыма. Тот запах, который я почувствовал в тоннеле во время сканирования.
Вокруг глаз у него были глубокие тёмные круги.
Во мне внезапно вскипела злость. Я готов был ударить лежащее передо мной тело.
Злость эта выплеснулась на стоящую рядом женщину.
— Обычно говорят, что умерший обрёл покой, — крикнул я. — Откуда, чёрт возьми, это известно? Посмотрите на его лицо. Думаете, он обрёл покой? Может, его ожидает новый ад. Страшнее, чем эта жизнь.
В этот момент я почувствовал на плече чью-то руку.
Это была Лиза. Каким-то образом она нашла меня здесь.
Она посмотрела на Симона. Внимательно, не отводя глаз. Прикоснулась пальцами к его коже — там, где не было ожогов. Склонилась над ним и стала вдыхать запах его тела.
Женщина из похоронного бюро стояла не двигаясь.
— У нас была такая игра, — сказал я, — у меня, у него и его младшей сестры Марии. И у моей матери. Игра под названием «Исполнение всех желаний». Сначала мама купала нас в ванне. Симон с Марией обожали это. За всё своё детство они ни разу не купались в ванне где-то в другом месте — только у нас. Мы втроём как раз помещались в нашей ванне. После купания мама мазала нас ночным кремом «Элизабет Арден». Симон с Марией, завёрнутые в полотенца, замирали на месте на мозаичном полу и, закрыв глаза, вдыхали ароматы дорогой косметики. Их лица лоснились от жирного крема. Потом я изображал лошадку и катал их на коврике по длинному коридору. И приносил им угощение — мандариновые дольки, кусочки бананов и изюм, которые мама выкладывала кругами на тарелки. И мы вместе играли моими игрушками.
Мысли у меня были в полном беспорядке. Слова сыпались сами собой.
— Думаю, я чувствовал угрызения совести. Потому что у нас было то, чего у них не было. И, может быть, я боялся, что когда-нибудь в будущем вот это произойдёт. Наверное, уже тогда я пытался делать всё, чтобы не потерять его. Может, в этом дело?
— Может вы просто любили его?
Это сказала не Лиза.
Сначала мне показалось, что это она. А кто ещё мог это сказать? Я не поднимал голову, я смотрел на Симона. И пока говорил, руки сами хватались за ящик, словно пытались пробудить Симона к жизни.
Вдруг я понял, что это заговорила женщина из похоронного агентства.
— Я проработала на этом посту тридцать лет, — сказала она.
«Пост» — редкое слово. Я уже давно его не слышал.
— Я часто думала: кто из нас может знать, что правильнее — жить человеку или умереть?
В первый момент я просто остолбенел. От жестокости её слов.
Но потом осознал, что нет в них никакой жестокости. В них было сострадание. Не профессиональное сострадание сотрудника похоронного агентства, а неподдельная искренность. И немалая доля смелости — она сказала то, чего никак нельзя было от неё ожидать, чего не могло быть в её должностных инструкциях.
Я взглянул на неё. Это тоже наш мир. В нём есть не только культ молодости и отрицание смерти и стремление вести себя так, словно собираешься жить вечно.
В этом мире есть и такие люди, как эта вот женщина, которая ежедневно сталкивается со смертью и, стоя на краю пропасти, спокойно принимает любые, даже самые невероятные обстоятельства.
*
Мы с Лизой вышли на парковку клиники, оттуда — в небольшой лес, за которым начинался заболоченный участок. Мы обошли его несколько раз.
Мы шли молча.
Вот тут и начала изливаться вся та скорбь, поток которой не остановится всю мою жизнь.
Поначалу перед глазами было совсем черно, потому что я был зол на Симона: он оставил своих детей, оставил меня и Лизу. Потом чернота стала чуть-чуть проясняться.
Отчасти из-за того, что Лиза шла рядом со мной, она ничего не говорила — мы переживали вместе.
Не сговариваясь, мы как-то непроизвольно повернули в сторону дома детей Симона и их матери.
И тут Лиза произнесла единственные слова обо всём этом.
Она взяла меня под руку и сказала:
— Скорбь живёт своей жизнью. Ничего тут не поделаешь.
* * *
Это были какие-то африканские похороны.
Собралось человек пятьсот. Такое я видел только когда жил в Африке, где люди поддерживают друг друга в смерти и сообща несут её бремя.
Я всегда считал, что в Дании смерть одинока. Всё, что с ней связано, обычно не выходит за пределы семьи.
Но на похороны Симона пришло пятьсот человек.
Многие его знакомые рассказывали о нём. И я немало всего услышал о его жизни в те годы, о которых ничего не знал.
Большинство присутствующих говорили о тех его сторонах, которые мне были вообще неизвестны. Внутри каждого из нас живёт не один человек, а несколько.
И все они вспоминали его открытость. И Марию.
Я поговорил с его бывшей женой и детьми. Они были подавлены и, казалось, впали в оцепенение.
*
В последующие три недели я отгородился от всех и общался только с детьми. Девочки спросили меня, что случилось с Симоном, и я сказал им правду: «Он поджёг свой дом. Ему стало так плохо, что он не хотел больше жить».
Они спросили, а не больно, когда ты горишь, и я ответил, что нет, человек не чувствует боли, он умирает от газа, который называется угарным и который появляется вместе с дымом. Человек умирает, уже не чувствуя физической боли.
По утрам я отводил девочек в школу, во второй половине дня забирал их. Они часто приводили домой подружек. Я готовил им еду и смотрел, как они играют. Водил их в лес или в бассейн. Один день сменялся другим. Мне не хотелось никаких перемен. Я часто думал, что лучше всего чувствую себя в обществе детей. Дети никак не пытаются нарушить твои границы. Детям свойственна какая-то деликатность, какое-то всеприятие.
Иногда мы все вместе ужинали, бывало, что и мать моих девочек присоединялась к нам. Она расспрашивала меня о детях Симона. Я рассказал, что общаюсь с ними. Что, боюсь, очень мало могу для них сделать.
Однажды в субботу утром в дом вошла Лиза.
Она постучала в дверь, открыла её, сбросила туфли и вошла в комнату.
Не было никаких сомнений, что девочки были рады её видеть. И что они внимательно наблюдают за нами.
Мы вместе отправились в долгую прогулку через лес к озеру.
Вдоль восточного берега озера тянулся песчаный пляж, совершенно безлюдный в этот час, и на песке мы увидели мёртвого оленя.
Мы почувствовали запах ещё до того, как заметили его.
Мы с девочками инстинктивно остановились.
Лиза подошла к оленю. Через секунду девочки последовали за ней. Потом и я.
Мы опустились на колени перед мёртвым животным. Погрузившись в тяжёлый, удушливый запах смерти.
— Тебе не кажется, что он очень противно пахнет? — спросила младшая.
— Да нет, вообще-то, — ответила Лиза.
— Почему у него нет глаз?
— Потому что другие животные в первую очередь съедают глаза. Они мягкие. Добраться до мяса труднее. Или до внутренних органов. Ведь для этого надо сначала разорвать шкуру.
Дети не скрывали своего любопытства. Им явно было интересно. Нужно было только, чтобы кто-нибудь из взрослых помог им заглянуть за черту, отделяющую жизнь от смерти.
— А почему он умер?
Это снова спрашивала младшая.
Я показал на две ранки на животе, одна из них была немного больше другой.