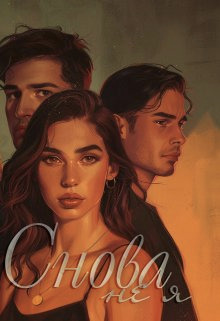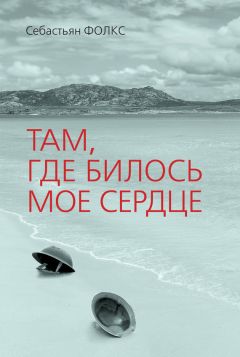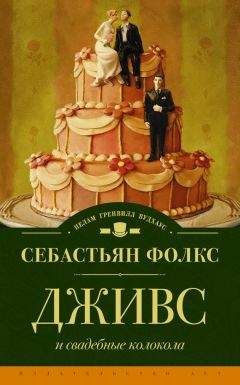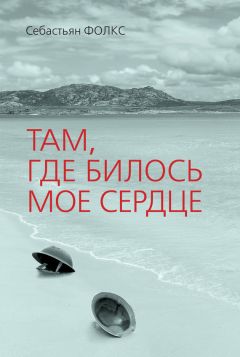— Тут у вас не будет никакой… домохозяйки. Готовить и убираться придется самому. Ванная комната внизу, но ею больше никто в доме не пользуется.
Я посмотрел на истершийся ковер. Батареи не было, хотя вдоль одной стены тянулась труба отопления. В камине немного угольной золы. На другой стене небольшая картина маслом: крестьянка поднимается по ступенькам уличной лесенки; судя по наклоненным плечам и складкам развевающегося подола, спешит. Желтоватый свет придавал этой сценке средиземноморский колорит. Такими же улочками я ходил по Поццуоли.
— Это мне подходит. Когда можно въезжать?
Я подумал, что сейчас она улыбнется, но нет, — у нее лишь слегка дрогнул уголок рта.
— Прямо сейчас, если хотите. Бумаги в конторе можете подписать завтра.
— Так просто? Вы не боитесь, что я к вам не приду?
— Не боюсь. Если хотите, давайте паспорт. Завтра верну. Внесете аванс за проживание.
— Продуктовый магазин тут есть?
— Да. На углу следующей улицы лавка Якоба. А чуть дальше по улице — ресторан. Рекомендую говядину с салатом из маринованных огурцов.
Она протянула мне ключи и ушла. Услышав удаляющийся стук каблучков по деревянным ступенькам, я слегка запаниковал. Но как опытный квартиросъемщик, я знал: чтобы успокоиться, лучше всего заняться распаковыванием чемодана и раскладыванием вещей на полках.
Я взял с собой пару крепких ботинок, два свитера да некоторое количество таблеток для регулярного приема. Почти все чемоданное нутро занимали специализированные книги и журналы. Остальное — носки и прочее — я собирался купить на месте.
Лавка Якоба напоминала пещеру, полную деликатесов, которые были разложены на полках темного дерева. Хозяин — в фартуке и с карандашиком за ухом — стоял за прилавком. Выслушав клиента, он шел вглубь пещеры и приносил требуемое. У нас тут же возникли языковые проблемы. В конце концов мы вдвоем пошли вдоль полок, и я тыкал пальцем то в одно, то в другое. В результате получил несколько кусков ветчины в пергаментной бумаге, хлеб, горчицу, апельсины и несколько консервных банок с неизвестным содержимым.
На следующий день я пошел в контору и уплатил за три месяца вперед. Мужчина в шляпе вернул мне паспорт.
Анны в конторе не было. Пользуясь в основном языком жестов, я исхитрился спросить, где что продается, и мне показали на карте.
Через несколько минут я стоял на мощеной центральной площади; с одной стороны — кафедральный собор, вдоль двух других — колоннады. Центр площади занимал фонтан и медная конная статуя какого-то именитого мужа — то ли Карла, то ли Филиппа, то ли Фридриха. То ли Смелого, то ли Последнего из рода Имярек, то ли Неукротимого. Лично мне он напомнил нашего деревенского председателя охотничьего клуба. Тот тоже неплохо смотрелся на лошади, особенно в пылу охотничьего азарта.
Я зашел в бар, заказал кофе и стал наблюдать за происходящим вокруг. Я так давно был один, что любопытство стало привычкой — не второй натурой, а первой и единственной. Что в этом дурного? Человек любопытен от природы, почему это должно меня тревожить? Однажды, пытаясь утешить отца, потерявшего ребенка, Альберт Эйнштейн написал: «Человек — это часть целого, которое мы называем Вселенной; часть, ограниченная во времени и в пространстве. Он ощущает себя, свои мысли и чувства как нечто отдельное от всего остального мира, что является своего рода оптической иллюзией. Эта иллюзия стала для нас темницей, запирающей нас в мире собственных желаний и привязанностей к узкому кругу близких нам людей. Наша задача — освободиться из этой тюрьмы, расширив сферу своего участия до всякого живого существа, до целого мира во всем его великолепии».
Видимо, Эйнштейн часто писал своим почитателям, жаждавшим получить от него мудрый совет. Наверное, он никак не ожидал, что ему, физику, придется выступать в амплуа проповедника и философа. Но я думаю, что подобная открытость общим проблемам физике только на пользу. Мне нравится его мысль о том, что мы часть целого, хотя немного смущает слово «оптическая». Странная неточность для ученого. Впрочем, возможно, ошибка вкралась при переводе.
Осматривая площадь, я честно старался преодолеть иллюзию оторванности от мира и расширить сферу своего участия до всякого живого существа, какое попадется мне на глаза. Проникнуться теплыми чувствами к птицам и собакам проще, чем к человеческим особям. По тротуару у кафе прохаживался в ожидании крошек голубь. На каменной кромке фонтана расселись воробьи. Хрупкие птичьи фигурки и разнообразие окраски перышек умиляли, как и полное неведение славных пташек о том, что они славные. Стать частью таких существ одно удовольствие. За соседним столиком сидели, блаженно посапывая, две моськи; ну и пусть, я был не против. Досадно только, что их, судя по утомленным мордочкам, закормили и замучили тисканьем. Комичной вальяжности крупных псов в них не было и в помине — только крохотная грудная клетка, в которой за ребрами часто-часто билось настоящее сердце.
Что касается людей, то к старикам, обреченным на неизбежное угасание, я испытывал острую жалость, а за молодых — страх. На пары я смотрел как на чужеродный экзотический элемент, зато женщин — самому было совестно — разглядывал с пристрастием самца, оценивая каждую и пытаясь угадать, кто она и чем занимается, не важно, четырнадцать ей было или семьдесят, как будто хотел заполучить их всех сразу — или никого. Но противнее всего было ощущение, что я упустил свое время и больше мне, несчастному одиночке, ждать нечего. Я немного сочувствовал всем этим людям, как велел Эйнштейн. Сочувствовал им как узникам иллюзорной «индивидуальности». Но эту смутную симпатию омрачало легкое презрение к ним же, так рьяно отстаивавшим свою неповторимость и грезившим о славе и прочей не имеющей значения чепухе. Мое дружелюбие не дотягивало до статуса искреннего сострадания.
Но я не всегда пребывал в таком мрачном настроении.
В субботу, например, я отправился на блошиный рынок, что у северных городских ворот. Уже заметно похолодало, и я надел под куртку оба свитера. Рынок расположился в помещении бывшего склада, а часть прилавков выплеснулась на улицу вдоль канала. В помещении торговали стеклянными абажурами, сломанными пылесосами, складными столиками с пятнами от воды и метинами от непогашенных сигарет. Наверное, слоняться по рынку в компании с кем-нибудь было бы гораздо веселее.
Я подошел к низенькой ограде канала, сел и закурил. Стал наблюдать за лотком, заставленным дешевой керамикой. Продавцы пытались что-то всучить человеку в дорогом пальто. Лоточник с испитым, осунувшимся и свирепым лицом, иссеченным морщинами, смотрел угрюмо, а его жена, пожалуй, слишком упитанная для несчастной нищенки, назойливо уговаривала «господина», старательно прикрывая шарфом круглые румяные щеки.
Чуть подальше от столика с керамикой кто-то поставил на патефон пластинку с новоорлеанским джазом, и холодный воздух наполнился утробными медными звуками.
Едва лишь вкрадчиво заурчал кларнет, у меня дрогнуло сердце, и снова обожгла мысль, что хорошо мне уже не будет никогда.
Всю жизнь мне казалось, что если я преодолею вот это или вот то, то сумею предугадать, что готовит мне судьба. Видимо, в подсознании теплилась надежда на доброе и справедливое провидение, которое непременно должно меня хранить. Мама мне это внушила или проповедник в воскресной школе, не знаю.
В городах, где мне довелось побывать, будь то Тунис, Коломбо или Иерусалим, а позже Венеция, Брюгге, Вена, да и все остальные, никакие «прозрения» по поводу собственного будущего меня не посетили. Я буравил взглядом городские стены, пытаясь угадать, что за ними скрывается. Запрокинув голову, смотрел на окна мансард, высившихся над магазинами первых этажей, поскольку с младых ногтей усвоил, что увидеть что-нибудь можно только в вышине. Я пытался проникнуть взором сквозь запотевшие окна баров, сквозь латунные решетки ресторанных окон, полуприкрытых шторами. Однако я видел лишь мир других, в котором мне самому места не находилось. Я бродил и бродил по тротуарам, напуганный и восхищенный изобилием и разнообразием происходящего, но не смел ни на чем остановиться, одновременно боясь упустить что-то действительно важное для себя.