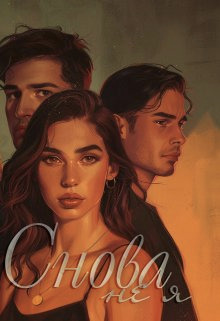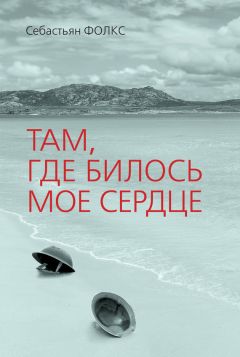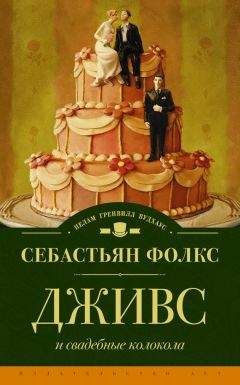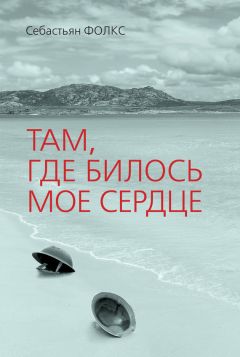Но на закате дней мать увидела, что от былого остались одни руины. Уходили короли и капитаны, но мятежи только множились. Ее муж в числе миллиона соотечественников был убит, и никто не смог объяснить моей маме зачем. Проходили десятилетия, и каждое было знаменито изощренными жестокостями, которые невозможно осмыслить: истребление поляков, русских, евреев, Бирманская дорога, концлагерь Берген-Бельзен, Штази, ГУЛАГ. Атомные бомбы, террористические операции и геноциды… Ее единственному сыну прострелил плечо человек из его же отряда, причем случилось это на территории, где нельзя было находиться.
Каждая смерть — это поражение, признание, что благостные фото на каминной доске ничего не значат, запечатленные на них моменты счастья подарены ненадолго, и за них придется расплачиваться, за каждый миг…
Людям маминого поколения достались сплошные разочарования. У нас еще возникали иногда иллюзии, у них — никогда.
Когда я снова поднялся наверх, мама спала. Сердце сжалось от непереносимой жалости: дикая свора неправильных опухолевых клеток тащила маму в гибельный омут. Я поставил поднос на кровать, тихонечко снял захватанные очки для чтения, убрал с щеки поникшую прядку. Пса я отнес на кухню и захлопнул дверь. Потом вышел в сад, подошел к старой яблоне и, уткнувшись лицом в ствол, больше не сдерживал слезы.
Вернувшись от зубного, я заметил, что мигает красный глазок автоответчика. Я всегда боюсь включать режим прослушивания. Никогда не знаю, хочу ли услышать послание от Аннализы. Я тосковал по бьющим током, непредсказуемым всплескам желания, но сейчас мне требовался надежный заслон из одиночества.
От Аннализы не было ни слова. Сообщение имелось только одно: «Здравствуйте, доктор Хендрикс, это опять я, Тим Шортер. Звонил вам некоторое время назад, но вы мне тогда не перезвонили. Может быть, не сработал автоответчик. Так я вот о чем хотел сказать: после седьмого января буду в Лондоне и очень надеюсь, что вы примете мое приглашение на ланч. Если мое сообщение дошло, пожалуйста, подтвердите. Совсем коротко».
Глава одиннадцатая
Саймону Нэшу моя идея с творческим отпуском не понравилась, но я пообещал, что с каждой своей публикации буду отчислять «Бисквитной фабрике» тысячу фунтов. Это гипотетическое предложение, похоже, его удовлетворило. Я решил, что писать книгу лучше за границей, где нет знакомых. Ни пациентов, ни коллег, ни телефона. Где часы будут катиться монотонно, тягучие и блеклые…
Естественно, я сразу подумал о Париже. Он рядом, я сносно говорю по-французски, и валютный курс неплохой. Я довольно часто бывал там, обычно на конференциях. Мне нравились его художественные галереи, метро с чарующими названиями станций, острова посреди реки, Нотр-Дам с его ажурными арочными контрфорсами. Очень красивый город, гораздо красивее Лондона. Правда, раздражало его самодовольство, раскатистая речь, сопровождаемая пожиманием плеч; почти не скрываемая симпатия к нацистам и тайное недовольство тем, что в августе сорок четвертого их выставили вон. Религиозность напоказ; привычка любоваться собственным красноречием, угрюмая надменность официантов, билетеров и продавцов; влажная духота крохотных номеров, оклеенных цветастыми обоями; стойкое пренебрежение к другим культурам.
В течение трех дней, пока длится конференция, можно и потерпеть, но несколько месяцев, которые потребуются для написания книги, это уж извините. Надо было выбрать что-то более подходящее. Я любил Рим, но, пожалуй, слишком сильно. Накалившиеся от зноя мощеные улицы, похожие на декорации к историческому фильму, будут зазывать поучаствовать в этих сюжетах. Попробуй тут усиди за столом. И к тому же мое военное прошлое было слишком крепко с ним спаяно.
Восточная Европа находилась под контролем СССР, значит, отпадала. Была, конечно, и Западная Германия. Но смогу ли я жить среди немцев? Они убили моих друзей и уничтожили в своих лагерях смерти шесть миллионов человек. То, что немцы похожи на англичан — и внешне, и культурными традициями, и имперскими замашками — лишь усугубляло мои сомнения. Если меня воротило от парижских коллаборационистов, до сих пор горюющих о немцах, изгнанных в сорок четвертом, то каково мне будет в вагоне метро, полном бывших нацистов?
На самом деле мне хотелось в ту Европу, которой удалось избежать варварства двадцатого века. Должен же где-то существовать такой город! Меня обуревала ностальгия. Если бы в 1905 году кто-нибудь сказал, что Европе следует отказаться от правления царей, кайзеров, эрцгерцогов и королей, пусть уступят место лидерам, избранным народом, мужчинами и женщинами, то в ответ прозвучало бы: «Задумка хорошая. Надо прикинуть, как этого достичь. Действовать нужно аккуратно». Однако, если бы тот же человек уточнил: «Достичь этого можно только посредством катастрофических жертв и ценой миллионов смертей в Европе и России. Новый век станет веком погромов, холокостов, пыток и кровавых расправ», — люди наверняка проводили бы оратора в небольшой, но комфортный местный сумасшедший дом.
Погожей осенью 1966 года искомый город был найден. Он не был идеальным. Но он был старым, благопристойным и смог приноровиться к современной жизни. Я без труда представлял себе, как по его улочкам прогуливается Данте или Гойя, Гете, Дарвин или Дебюсси, пусть они тут и не жили. Что-то еще осталось от прежней простодушной Европы. До того, как ее растерзали, загадили и из процветающего континента превратили черт знает во что.
Я зашел в туристическую контору, попросил подыскать мне квартиру. Человек за стойкой был усат, на голове фуражка, как у трамвайного кондуктора. Он выложил передо мной список сдаваемых апартаментов, но прочесть его мне не удалось. Усач сказал, что сотрудница с английским вернется в два часа.
Сотрудницу звали Анной. У нее были шоколадного цвета волосы до плеч и бледные губы, словно слепленные из глины и тщательно отшлифованные скульптором. На ней была шерстяная юбка и высокие, до коленок, кожаные сапоги. Думаю, ей было лет тридцать восемь. Она показалась мне вялой, но не от усталости, а от того, что мыслями была явно не здесь.
Пока мы шли вдоль реки, она спросила, что я собираюсь делать в ее городе. Писать книгу, сказал я.
— Писателей у нас тут много, — заметила она.
— Вы меня утешили.
— История у города богатая, как раз для романа.
— Я собираюсь писать про реальную жизнь. Про то, что с нами не так.
— С нами со всеми?
— Строго говоря, да.
Она открыла калитку во дворик, мы поднялись по каменной лесенке.
— И на какое время вам требуется жилье? — спросила Анна.
— Пока не напишу. Месяца на три.
Она пожала плечами:
— Мне тут не нравится. И тетка, которой дом принадлежит… как это у вас называется?
— Домохозяйка?
— Ну да. Сука она, вот кто. Это правильное слово?
— В данном случае вам виднее.
Склонив голову набок, Анна задумчиво меня осмотрела.
— А это что? — она ткнула пальцем в футляр.
— Пишущая машинка.
— Такая маленькая?
— Портативная. Чтобы легче было таскать.
— И печатать умеете?
— Не очень хорошо. Двумя пальцами.
Ни тени улыбки. Интересно, что способно ее рассмешить.
Она провела меня по всей квартире. Тихое и какое-то нежилое местечко. Возможно, оно и к лучшему, решил я, ничто не будет отвлекать от творческого процесса.
— Могу предложить кое-что получше, — сказала Анна, глянув в свой список. — Идемте.
Мы снова пересекли двор, вышли в переулок. Спустились к реке, которая тут сворачивала, распадаясь на несколько каналов. Анна шла очень уверенно, не оглядываясь по сторонам. Остановились у зеленой, слегка облупившейся дверцы, Анна нашарила в кармане ключи.
Из темного вестибюля поднялись по деревянной лестнице наверх. Анна отперла дверь, за которой оказалась неожиданно просторная комната с натертым полом; половицы темные, из каштана. У окна стоял письменный стол, окно смотрело на канал. В углу кровать с высоким изголовьем, в другой половине комнаты — отгороженная занавеской кухонька с раковиной и газовой плиткой.