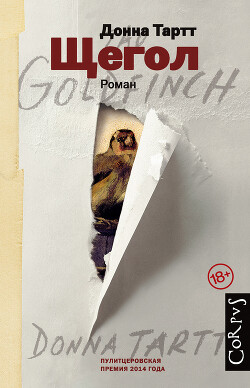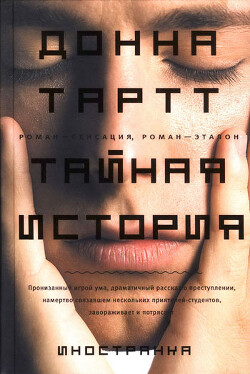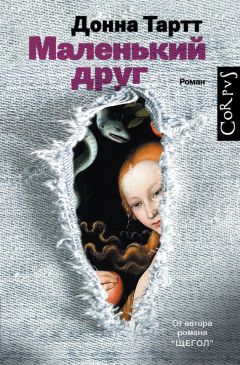Из трех пустовавших наверху комнат я выбрал самую большую, у которой, будто в гостиничном номере, была собственная крошечная ванная. На полу — ковролин с плотным иссиня-стальным ворсом. На кровати — голый матрас, в ногах валяется запаянное в пластик постельное белье. «Перкаль-люкс». «Скидка 20 %». От стен исходит мягкий механический гул, будто жужжит фильтр в аквариуме. По телику в таких комнатах обычно убивали стюардесс или проституток.
Прислушиваясь к отцу и Ксандре, я уселся на матрас и положил обернутую в газету картину себе на колени. Даже закрывшись на замок, я все равно никак не решался развернуть картину — вдруг они поднимутся наверх, — но не смог справиться с желанием взглянуть на нее. Очень-очень аккуратно я подцепил ногтями липкую ленту за краешки и оторвал ее.
Полотно выскользнуло куда легче, чем я думал, и я еле сдержал возглас восхищения. В первый раз я видел картину в ярком дневном свете. В нагой комнате — сплошь белизна да гипсокартон — приглушенные цвета распахнулись, ожили, и несмотря на то, что поверхность полотна была слегка затуманена пылью, от нее пахнуло воздушностью, какая исходит от омытой светом стены против раскрытого окна. Поэтому, что ли, люди вроде миссис Свонсон так любили распространяться про особый свет в пустыне? Она обожала заливать про свою так называемую «вылазку» в Нью-Мексико — про широкие горизонты, пустые небеса, духовное просветление. И вправду, будто благодаря какой-то игре света, картина вдруг преобразилась — так, бывало, вид из окна маминой комнаты на мрачный зигзаг крыш с водными резервуарами вдруг на пару мгновений зазолотится, заискрит от вечернего предгрозового воздуха, какой бывает перед летним ливнем.
— Тео! — забарабанил в дверь отец. — Есть хочешь?
Я вскочил, очень надеясь на то, что он не станет дергать ручку и не узнает, что я тут заперся. В моей новой комнате было пусто, как в тюремной камере, но вот в гардеробе верхние полки были очень высоко, куда выше отцовского уровня глаз, и очень глубокие.
— Я поехал за китайской жратвой. Принести тебе чего?
Догадается ли отец, что перед ним за картина, если увидит? Сначала я так не считал, но потом, взглянув на нее при свете, на исходившее от нее свечение, понял, что тут любой дурак догадается.
— Эээ, я сейчас, — отозвался я натужным, хриплым голосом, сунул картину в наволочку, спрятал ее под кровать и выбежал из комнаты.
7
Пока не началась школа, я неделями болтался на первом этаже с наушниками от айпода в ушах, но только с выключенным звуком, и узнал много чего интересного. Для начала: на прежней работе отцу вовсе не нужно было так часто мотаться в командировки в Чикаго или Феникс, как он нам рассказывал. Тайком от нас с мамой он несколько месяцев то и дело летал в Вегас, и в Вегасе же, в азиатском баре при «Белладжио», они с Ксандрой познакомились. Они начали встречаться еще до того, как отец сбежал, — и встречались уже, как я понял, чуть больше года, а «годовщину», похоже, отпраздновали незадолго до маминой смерти — обедом в стейкхаусе «Дельмонико» и походом на концерт Джона Бон Джови в «Эм-Джи-Эм Гранд». (Бон Джови! Столько всего мне хотелось рассказать маме — тысячи новостей, если не целый миллион, — но особенно жаль было, что вот этот прикол она никогда не узнает.)
Еще пара дней в Пустынном тупике, и я выяснил, что на самом деле имели в виду Ксандра с отцом, когда говорили, что он «бросил пить» — он перешел со своего любимого скотча на «Корону лайт» с викодином. А я все недоумевал, чего отец вечно в самые неподходящие моменты показывает Ксандре пальцами «птичку» — знак победы, — и еще долго бы недоумевал, если б отец однажды просто не попросил у Ксандры викодин, думая, что я не слышу.
Про викодин я знал только то, что из-за него одна безбашенная киноактриса, которая мне нравилась, вечно засвечивалась в желтой прессе: она, такая, вываливается из «мерседеса», и полицейские мигалки на заднем фоне. Однажды я наткнулся на пластиковый пакетик, в котором лежало на глаз таблеток триста, — он стоял себе на кухонной стойке, рядом с бутылочкой отцовской «Пропеции» и стопкой неоплаченных счетов: пакет Ксандра выхватила и закинула к себе в сумку.
— А что это? — спросил я.
— A-а, витаминки.
— А чего они вот так, в пакете?
— А мне их дает один бодибилдер с работы.
Самое странное — и это мне тоже очень хотелось обсудить с мамой — с этим новым обдолбанным папой сосуществовать было куда приятнее и проще, чем с прежним отцом. Когда отец напивался, то весь превращался в комок нервов — сплошь неуместные шутки и вспышки агрессии, и так пока не отключится, но когда он переставал пить, делался еще хуже. На улице он несся шагов на десять впереди мамы, разговаривал сам с собой и все ощупывал карманы, будто в поисках оружия. Покупал дорогие и ненужные нам вещи, вроде «блаников» из крокодиловой кожи (мама терпеть не могла каблуки), которые еще и были неправильного размера. Притаскивал с работы стопки бумаг и засиживался заполночь, хлебая кофе со льдом и лупя по клавишам калькулятора, при этом с него градом лил пот, будто он только что минут сорок отзанимался на степпере. Или мог устроить целый спектакль ради вечеринки, на которую надо тащиться куда-то аж в Бруклин («То есть как это — „А может, тебе не ходить?“ Я тут что, как сраный отшельник, жить должен?!»), а потом, затащив маму на эту самую вечеринку, уже через десять минут с кем-нибудь поругается или над кем-нибудь злобно подшутит и пулей оттуда вылетает.
С таблетками в нем просыпалась другая, куда более мирная энергия: смесь заторможенности и оживления, дурманная, клоунская плавность. Он развязнее шагал. Частенько придремывал, на все кивал дружелюбно, забывал, о чем говорил, шатался по дому босой, в распахнутом до пупка халате. Он так добродушно чертыхался, так редко брился и так ненапряжно болтал, свесив сигарету из уголка рта, что, казалось, будто он кого-то играет: какого-то крутого парня из нуара пятидесятых или, может, из «Одиннадцати друзей Оушена» — сытого, разленившегося гангстера, которому нечего терять. Но даже за всей этой непринужденностью в нем по-прежнему просвечивало какое-то двинутое геройство школьного хулигана, которое все чаще и чаще пробивалось наружу с приближением осени: подзатертое, наплевательское.
Дома, в Пустынном тупике, где был подключен дорогущий пакет кабельного телевидения, на который мама бы ни за что не согласилась, он спускал жалюзи и усаживался с сигаретой перед телевизором, остекленелый, будто курильщик опия, и смотрел спортивный канал с выключенным звуком — не следя ни за какими соревнованиями, просто глядел все подряд: крикет, джай-алай, бадминтон, крокет. Воздух был переохлажденный, со спертым мерзлым запахом, отец часами сидел, не двигаясь, струйка дыма с его «Вайсроя» уплывала под потолок, будто дымок от благовоний; он с таким же успехом мог размышлять как о том, кто ведет в гольфе или в чем там еще, так и о Будде, дхарме или сангхе.
А вот есть ли у отца работа, было совсем непонятно, и если он работал — то кем? Телефон звонил днем и ночью. Отец выходил в коридор с переносной трубкой, поворачивался ко мне спиной и, разговаривая, опирался рукой о стену и глядел в пол — в этой позе он чем-то напоминал тренера перед концом жесткого матча. Обычно говорил он вполголоса, но даже когда не сдерживался, все равно было непонятно, что он говорит: процент вига, одиночная ставка, вероятный фаворит, фору учитываем — не учитываем. Он то и дело куда-то пропадал — и не объяснял свои отлучки, и часто они с Ксандрой вообще не ночевали дома.
— Нас в «ЭмДжиЭм Гранд» частенько селят комплиментом, — объяснял он, потирая глаза, с утомленным выдохом проваливаясь в подушки на диване, и снова я чуял в нем его героя — капризный плейбой, пережиток восьмидесятых, умирает со скуки. — Ты, я надеюсь, не против? Просто, когда она работает в ночную смену, нам в сто раз проще приткнуться где-нибудь на Стрипе.
8
— Откуда все эти бумажки? — однажды спросил я Ксандру, которая мешала себе на кухне диетический коктейль. Меня сбивали с толку эти распечатанные таблички, на которые я натыкался по всему дому — в колонках карандашом были вписаны однообразные ряды цифр. Какой-то неуютный был у них научный видок — будто это последовательности ДНК или шпионские сообщения в двоичном коде.