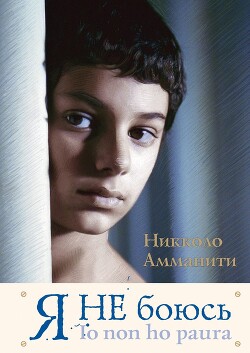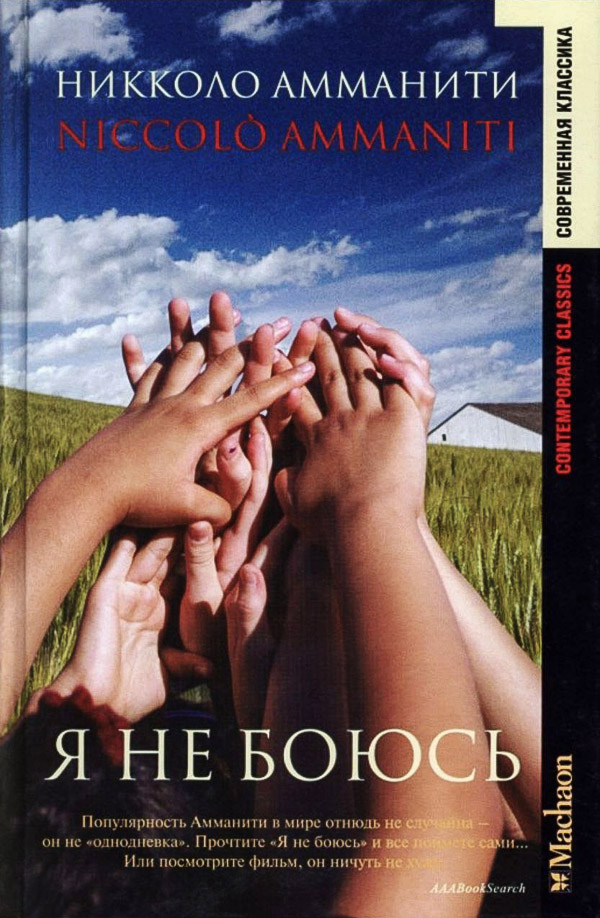Когда я вновь открыл глаза, по мне сновали огромные муравьи.
Сколько я спал? Пять минут или два часа?
Я вскочил на Бульдозер и помчался к дому. Я крутил педали, а перед глазами стоял мёртвый мальчик, который поднимался и тянул ко мне руки. Его землистое лицо, закрытые глаза, распахнутый в крике рот.
Сейчас всё казалось мне сном. Потерявшим силу кошмаром.
Он был живым. Он только притворялся мёртвым. Почему?
Может, он был болен. Может, он был монстром.
Оборотень, и по ночам превращался в волка. И его держали на цепи, потому что он опасен. Я видел по телевизору фильм о человеке, который в полнолуние превращался в волка и нападал на людей. Крестьяне поставили на него ловушку, волк попал в неё, и один охотник убил его, и волк умер и превратился в человека. Он стал аптекарем. А охотник был сыном этого аптекаря.
Может быть, и этого мальчика держали под листом на цепи в яме, чтобы изолировать от лунного света.
Оборотней нельзя вылечить. А чтобы убить их, нужна специальная пуля из серебра.
Но оборотней не существует.
«Кончай ты с этими монстрами, Микеле. Монстров не существует. Призраки, оборотни, ведьмы – всё это глупости, придуманные специально, чтобы пугать таких наивных, как ты. Надо бояться людей, а не монстров», – сказал мне как-то папа, когда я спросил его, могут ли монстры дышать под водой.
Но, если его держат там взаперти, должна быть причина.
Папа мог бы объяснить мне все.
– Папа! Папа… – Я толкнул дверь и вбежал в комнату. – Папа! Я должен тебе… – Слова застряли у меня в горле.
Он сидел в кресле с газетой в руках и смотрел на меня жабьими глазами. Страшными жабьими глазами, которые мне приходилось видеть только один раз, когда я выпил освящённую воду из Лурда[5], приняв её за обычную газировку. Он вдавил окурок в чашку из-под кофе.
Мама сидела на диване и шила. Она посмотрела на меня и опустила голову.
Папа втянул воздух носом и спросил:
– Где ты шлялся весь день? – Оглядел меня с головы до ног. – Ну ты посмотри на него. Ты где валялся? – Он скривил лицо: – Весь в дерьме. Воняешь, как свинья. И сандалии порвал! – Он посмотрел на часы. – Ты знаешь, который сейчас час?
Я молчал.
– Я тебе скажу который: без двадцати четыре. И за обедом я тебя не видел. Никто не знал, где ты. Я искал тебя до самого Лучиньяно. Вчера тебе такое сошло с рук, сегодня нет.
Когда отец был взбешён, он не кричал, а говорил тихим голосом. Это вгоняло меня в трепет. До сих пор не переношу людей, не умеющих выпускать пар своей ярости.
Он указал на дверь:
– Раз ты хочешь делать всё, что тебе заблагорассудится, лучше уходи. Я не хочу тебя видеть. Проваливай.
– Ну подожди, я хочу сказать тебе одну вещь.
– Ты не должен мне ничего объяснять, ты должен выйти в эту дверь.
Я взмолился:
– Ну папа! Это очень важно…
– Если ты не уйдёшь, через три секунды я дам тебе такого пинка, что ты долетишь до самого указателя Акуа Траверсе. – И неожиданно заорал: – Пошёл вон!
Я кивнул. Слёзы душили меня, я открыл дверь и спустился по лестнице. Сел на Бульдозер и поехал в сторону пересохшего русла.
Русло было сухим всегда, за исключением зим, когда шли сильные дожди. Оно вилось меж жёлтыми полями, как длинный уж-альбинос. Дно его было полно белых острых камней, берега составляли раскалённые скалы с пучками травы. В одном месте, между двух холмов, русло расширялось, образуя небольшое озерко, которое летом высыхало, превращаясь в грязную чёрную лужу.
Мы звали её озером.
В этом озере не было ни рыбы, ни головастиков, только личинки комаров и водомерок. Если сунуть в него ноги, вынимаешь их покрытыми тёмной вонючей грязью.
Мы ходили сюда из-за дерева.
Оно было огромным, старым, и на него было легко забираться. Мы мечтали построить на нём дом. С дверью, крышей, верёвочной лестницей и всем остальным. Но то не было гвоздей, то досок, то настроения. Однажды Череп затащил на него сетку от кровати. Но она была очень неудобной. Царапалась и рвала одежду. И если ты начинал вертеться, то рисковал свалиться вместе с ней на землю.
С некоторых пор никто на дерево не забирался. Кроме меня: мне нравилось это делать. Я хорошо себя чувствовал там, наверху, в тени листвы. Оттуда был хороший обзор, словно с мачты корабля. Акуа Траверсе казалась пятнышком, точкой, затерянной в пшенице. И можно было видеть всю дорогу до самого Лучиньяно. С дерева я видел тент грузовика моего отца раньше, чем кто-либо другой.
Я вскарабкался на своё привычное место, на развилке двух толстых ветвей, и решил, что домой я больше не вернусь. Если папа не хочет меня видеть, если он меня так ненавидит, мне наплевать, я останусь здесь. Смогу прожить и без семьи – живут же сироты.
«Я не хочу тебя видеть. Пошёл вон!» Ладно, папа, сказал я себе. Даже когда тебе станет очень плохо и ты придёшь сюда, под дерево, умолять меня вернуться, я не вернусь, и ты станешь умолять меня, а я не вернусь, и ты поймёшь, что совершил ошибку и что твой сын не вернётся и останется жить на дереве.
Я снял майку, прислонился спиной к дереву, подпёр голову руками и посмотрел на холм с ямой. Он был далеко отсюда, в самом конце равнины, и солнце заходило за него. Оно походило на огромный апельсин, светящийся сквозь облака.
– Микеле, слазь!
Я проснулся и открыл глаза, не соображая, где я. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что я на дереве.
– Микеле!
Под деревом на своей «грациэлле» сидела Мария. Я зевнул:
– Чего тебе? – И потянулся, у меня затекла спина.
Она слезла с велосипеда:
– Мама сказала, чтобы ты возвращался домой. Я натянул майку: становилось прохладно.
– Нет. Я больше не вернусь, так и скажи. Я останусь здесь!
– Мама велела передать, что ужин готов.
Было поздно, ещё не темно, но через полчаса станет темнее. Это мне не очень нравилось.
– Скажи ей, что я больше не их сын и что у них осталась только ты одна.
Сестра подняла брови:
– И мне ты тоже теперь не брат?
– Нет.
– Значит, я буду в комнате одна и могу брать твои комиксы?
– Нет. И не думай.
– Мама сказала, если не придёшь ты, придёт она и тебя накажет.
– Ну и пусть приходит. Она не сможет залезть на дерево.
– Ещё как сможет. Мария села на велосипед:
– Смотри, разозлится.
– А папа где?
– Его нет.
– А где он?
– Уехал. Вернётся поздно.
– Куда поехал?
– Не знаю. Ну, ты идёшь?
Я ужасно хотел есть.
– А что на ужин?
– Пюре и яйцо, – ответила она, отъезжая.
Пюре и яйцо. Я безумно любил и то и другое. А если смешать их вместе, то получалась потрясная штука.
Я спрыгнул с ветки:
– Ладно, иду, только на этот вечер.
За ужином никто не разговаривал. Казалось, в доме покойник. Мы с сестрой ели, сидя за столом. Мама мыла посуду.
– Когда закончите, бегом в постель, без возражений.
– А телевизор? – спросила Мария.
– Никаких телевизоров. Скоро вернётся отец, и, если не увидит вас в кроватях, будет беда.
– Он ещё сердится? – спросил я.
– Сердится.
– Что он сказал?
– Сказал, что, если будешь продолжать в таком же духе, он отправит тебя к монахам.
Всякий раз, когда я делал что-нибудь не так, папа грозился отослать меня к монахам.
Сальваторе с матерью часто ездили в монастырь Сан-Бьяджо, где его дядя был монахом-приором. Однажды я спросил Сальваторе, как живут монахи.
– Хреново, – ответил он. – Целый день молишься, а вечером тебя запирают в комнатушке, и если захочешь поссать, то уже не можешь этого сделать. Ещё тебя заставляют ходить в сандалиях, даже если очень холодно.
Я ненавидел монахов, но знал, что не окажусь у них никогда. Потому что отец ненавидел их ещё больше, чем я, и обзывал их свиньями.
Я поставил тарелку в мойку.
– Папа никогда не перестанет сердиться?
Мама ответила:
– Если увидит тебя спящим, может, перестанет.