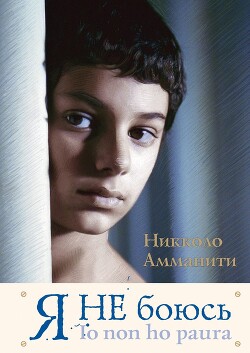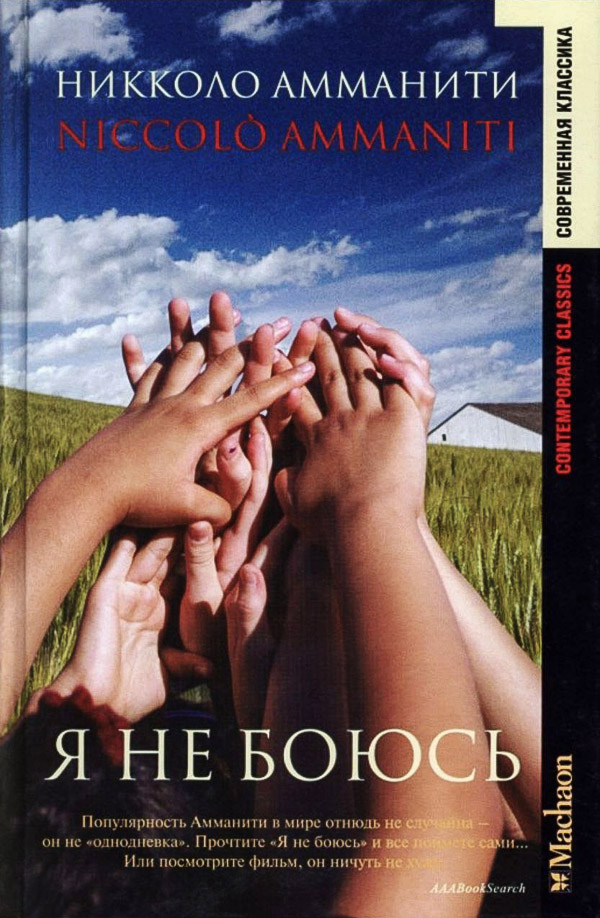– Давай, давай! Что у тебя, творог вместо мускулов, что ли? Да ты слабее мошки! Где твои силы?
– Не получается, – выдавил я.
Это было, как если б я гнул лом.
– Ты как женщина, Микеле. Мария, помоги ему, давай!
Сестра вскарабкалась на стол, и вдвоём, скрипя зубами и сопя, нам удалось прижать его руку к столу.
– Подарок! Давай подарок! – потребовала Мария.
Папа взял картонную коробку, полную мятой бумаги. Внутри был подарок.
– Лодка! – сказал я.
– Не лодка, а гондола, – поправил меня папа.
– А что такое «гондола»?
– Гондола – это венецианская лодка. Ею управляют одним веслом.
– Что такое «весло»? – спросила моя сестра.
– Такая палка, чтобы двигать лодку.
Гондола была очень красивая. Вся из чёрного пластика. Кое-где украшена серебром, а на конце стоял пупс в майке в бело-розовую полоску и в соломенной шляпе.
Но оказалось, что мы не можем играть ею. Она должна стоять на телевизоре. На белой кружевной салфетке, напоминавшей озерко. Гондола не была игрушкой. Это была ценная вещь. Для украшения мебели.
– Кому идти за водой? Скоро садимся есть, – спросила мама.
Папа сидел перед телевизором и смотрел новости.
Я накрывал на стол и сказал:
– Марии. Вчера я ходил.
Мария сидела в кресле со своими куклами.
– Я не хочу. Иди ты.
Никому из нас не нравилось ходить за водой к фонтану, и потому мы договорились ходить через день. Но приехал папа, и для моей сестры это означало, что никакие договорённости больше не действуют.
Я отрицательно покачал головой:
– Твоя очередь.
Мария закинула ногу на ногу:
– Я не пойду.
– Почему?
– У меня голова болит.
Всякий раз, когда она не хотела делать что-нибудь, говорила, что у неё болит голова. Это была любимая её отговорка.
– Неправда, ничего у тебя не болит, врунья.
– Правда! – И начала тереть лоб с выражением боли на лице.
Я был готов удушить её:
– Твоя очередь! И ты должна идти!
Маме надоело слушать нас, и она сунула мне кувшин:
– Сходи ты, Микеле, ты старше. И хватит спорить, – сказала она таким тоном, как будто это был пустяк, ничего не значащий.
Победная улыбка расползлась по губам сестры:
– Слышал?
– Это несправедливо. Я уже ходил. Не пойду.
Мама посмотрела на меня и тоном, предвещавшим бурю, произнесла:
– Слушайся, Микеле!
– Нет. – Я подошёл к отцу. – Папа, но очередь не моя. Я ходил вчера.
Он оторвался от телевизора и посмотрел на меня, словно видел впервые, пожевал губами и спросил:
– Ты знаешь, что такое на спор по-солдатски?
– Нет. А что это?
– Так спорят солдаты во время войны, когда решают, кому идти выполнять смертельно опасное задание. Никогда не слышал?
Он извлёк из кармана коробок спичек.
– Нет, не слышал.
– Они берут спички. – Он достал три из коробка. – Одна для меня, одна для тебя и одна для Марии. У одной мы отломаем головку. – Он сломал головку одной из спичек, потом сжал все их в кулаке, так что торчали кончики. – Кто вытягивает ту, что без головки, идёт за водой. Давай тяни!
Я вытянул целую спичку. И подпрыгнул от радости.
– Мария, твоя очередь. Тяни.
Моя сестра также вытянула целую спичку и захлопала в ладоши.
– Стало быть, идти мне. – Папе досталась короткая.
Мы с Марией принялись смеяться и кричать:
– Тебе идти! Тебе! Ты проиграл! Иди за водой!
Папа поднялся слегка огорчённый:
– Ладно, но, когда вернусь, вы должны быть уже умытыми. Ясно?
– Хочешь, я схожу? Ты устал, – сказала мама.
– Тебе нельзя. Это моё смертельное задание. К тому же мне надо взять сигареты в грузовике. – И вышел с кувшином в руке.
Мы быстро умылись, съели жаркое с макаронами и помидорами и после, поцеловав папу и маму, пошли спать, даже не настаивая на том, чтобы посмотреть телевизор.
Я проснулся среди ночи. Мне приснился дурной сон.
Иисус сказал Лазарю: встань и иди. Но Лазарь не встал. Встань и иди, повторил Иисус. Но Лазарь даже и не собирался воскрешаться. Иисус, который походил на Северино, привозившего нам воду в автоцистерне, разгневался. Невообразимо! Когда Иисус говорит: встань и иди, ты должен сделать это, особенно если ты мёртвый. А Лазарь, напротив, лежал пластом и не воскрешался. Тогда Иисус принялся трясти его, словно куклу, и Лазарь встал и вцепился ему зубами в горло. Оставь в покое мёртвых, говорил он окровавленными губами.
Я открыл глаза весь в поту.
Последние ночи были такими жаркими, что если, к несчастью, ты просыпался, то уснуть было уже невозможно. Наша с сестрой комната была узкой и длинной. Для неё отрезали кусок коридора. Обе кровати стояли вдоль стены под окном. С другой стороны была стена, которую отделяло от кроватей сантиметров тридцать.
Зимой тут было холодно, а летом нечем дышать.
Тепло, напитавшее за день стены и потолок, изливалось на нас по ночам. Казалось, что подушку и шерстяной матрас только что достали из печки.
Сразу же за моими ногами я видел тёмную головку Марии. Она спала в очках, скинув одеяло, абсолютно расслабившись, раскинув руки и ноги.
Она говорила, что, когда просыпается без очков, очень пугается. Обычно мама снимала их, как только она засыпала, потому что от них оставались следы на лице.
На подоконнике дымился и вонял аппаратик, убивавший комаров, но плохо действовавший и на нас. Впрочем, тогда никого не беспокоили такие мелочи.
К нашей комнате примыкала комната родителей. Я слышал храп отца. Шелест вентилятора. Дыхание моей сестры. Монотонный зов одинокой совы. Дрожь холодильника. Чувствовал вонь стоков из-под туалета.
Я встал на колени в кровати и лёг животом на подоконник, чтобы вдохнуть немного свежего воздуха.
Стояла полная луна, высокая и яркая. Было видно далеко, словно днём. Поля казались фосфоресцирующими. Воздух – замершим. Дома были тёмными и тихими.
Наверно, я был единственным во всём Акуа Траверсе, кто не спал. Эта мысль доставила мне удовольствие.
Ребёнок в яме.
Я представил его мёртвым в земле. Тараканы, клопы, сороконожки ползали по нему, по его кровоточащей коже, черви выползали из его мертвенно-бледных губ. А глаза походили на два варёных яйца.
Я видел мертвеца лишь однажды. Моя бабушка Джованна лежала на кровати со скрещёнными на груди руками, в чёрном платье и туфлях. Её лицо было словно из резины. И цвета воска. Папа сказал, что я должен поцеловать её. Все кругом плакали. Папа подтолкнул меня. Я приложил губы к холодной щеке. Почувствовал отвратительный сладковатый запах, который смешивался с запахом свечей. Потом я вымыл рот мылом.
А если ребёнок живой?
Если он хотел выбраться, и царапал стены ногтями, и звал на помощь? А если его схватил людоед?
Я высунулся из окна и в конце равнины увидел холм. Казалось, он появился из ниоткуда и выделялся, словно остров, поднявшийся из моря, высоченный и чёрный, со своей тайной, которая ждала меня.
– Микеле, я пить хочу… – проснулась Мария. – Принеси мне попить. – Она говорила, не открывая глаз и облизывая пересохшие губы.
– Сейчас, подожди… – Я поднялся.
Мне не хотелось выходить из комнаты. А вдруг за дверью моя бабушка Джованна сидит сейчас за столом вместе с ребёнком? И скажет мне: входи, садись вместе с нами, покушаем? А на блюде курица со свёрнутой шеей.
За дверью никого не было. Лунный луч падал на диван в цветочек, на буфет с белыми тарелками, на пол из мраморной чёрно-белой крошки и заканчивался в комнате папы и мамы. Я видел их сплетённые ноги.
Я открыл холодильник и достал кувшин с холодной водой. Открыл, налил стакан для сестры, которая выпила его одним глотком:
– Спасибо.
– А теперь спи.
– Почему ты принял наказание вместо Барбары?
– Не знаю…
– Ты не хотел, чтобы она спустила трусики?
– Не хотел.
– А если бы мне пришлось делать это?
– Что?
– Спустить трусики. Ты так же бы поступил?