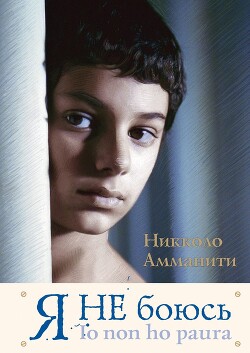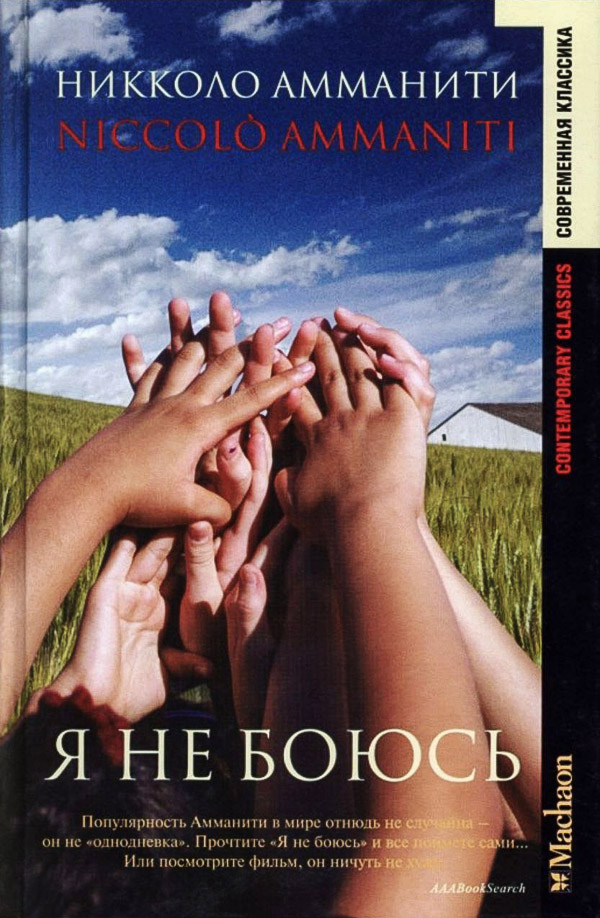В конце концов, заскучав, мы потопали в обратный путь. Тропинка спускалась к равнине, пересекала поля и стекала в дорогу. Мы взяли велосипеды и молча покатили к дому. Мошкара тучами роилась вокруг.
Я смотрел на Марию, ехавшую за мной на своей «грациэлле» с истёртыми камнями шинами, на Черепа, ехавшего впереди всех, с приклеившимся к нему оруженосцем Ремо, на Сальваторе, выписывавшего зигзаги, на Барбару, на слишком большом для неё «бьянки», а сам думал о ребёнке в яме.
Я решил не рассказывать о нём никому.
«Кто первый находит что-нибудь, тому это и принадлежит», – так решил Череп.
Если это так, то ребёнок в яме – мой.
И, если б я только обмолвился о нём, Череп, как обычно, присвоил бы заслугу находки себе. Он объяснил бы всем, что это он его нашёл, потому что именно он решил подняться на холм.
На этот раз – фигушки. Я исполнял наказание, я свалился с дерева, и я его нашёл.
И он принадлежал не Черепу. И не Барбаре. И не Сальваторе. Он – мой. Это моя тайная находка.
Я так и не понял, нашёл я его живым или мёртвым. Может быть, рука не двинулась. Может, мне только показалось. Может, это реакция мёртвого тела. Как у осы, её разрежешь надвое ножницами, а она продолжает шагать, или у курицы: ей отрубят голову, а она хлопает крыльями и без головы. Но кто посадил его в эту яму?
– А что мы маме скажем?
Я даже не заметил, как сестрёнка подъехала ко мне сбоку.
– Что?
– Что скажем маме?
– Не знаю.
– Об очках скажешь ей ты?
– Я. Но ты не должна никому рассказывать, где мы были.
– Ладно.
– Поклянись.
– Клянусь. – И поцеловала кончики пальцев.
Сегодняшний Акуа Траверсе – часть Лучиньяно. В середине 1980-х годов какой-то градостроитель соорудил здесь длинную шеренгу домиков из армированного бетона, представлявших собой кубы с круглыми окнами, голубыми перилами и металлическими шпилями на крышах. Затем здесь появился кооперативный магазин и бар с сигаретной лавкой, равно как и двухполосное асфальтированное шоссе, прямое, словно посадочная полоса, которое шло до самого Лучиньяно.
А в 1978 году Акуа Траверсе было таким крошечным местечком, что его как бы и не существовало вовсе. Деревушка – написали бы о нём сегодня в туристическом справочнике.
Никто не знал, почему его назвали так[1], даже древний дед Тронка. Воды здесь никогда не было и в помине, если не считать той, что каждые две недели привозила автоцистерна.
Здесь находилась вилла, где жил Сальваторе, все звали её Дворцом. Огромный нелепый дом, построенный в XIX веке, длинный и серый, с высоким каменным портиком и внутренним двориком с пальмой посредине. И были ещё четыре дома. Как их описать? Четыре дома, и все тут. Четыре жалких строения из скреплённых цементом камней. С черепичными крышами и маленькими окнами. Наш. Семьи Черепа. Дом Ремо, который его семья делила со стариком Тронка. Тронка был абсолютно глух, у него давно умерла жена, и он жил в двух комнатах, выходивших в огород. Был дом Пьетро Мура, отца Барбары. Анжела, его жена, на нижнем этаже открыла лавчонку, где можно было купить хлеб, макароны и мыло. И откуда позвонить.
Два дома по одну, два – по другую сторону грунтовой, в колдобинах, дороги. Никакой площади. Никаких переулков. Были ещё две скамейки под увитой клубникой перголой и фонтанчик с краном, запиравшимся на ключ для экономии воды. А вокруг бескрайние пшеничные поля.
Единственная вещь, которая украшала это забытое Богом и людьми место, была красивая голубая табличка с крупными буквами: АКУА ТРАВЕРСЕ.
– Папа приехал! – закричала моя сестра.
Она спрыгнула с велосипеда и бросилась вверх по лестнице.
Рядом с нашим домом стоял его грузовик, «фиат-лупетто» с зелёным тентом.
В те годы папа работал дальнобойщиком и проводил в поездках по нескольку недель кряду. Загружался товарами и вёз их на Север.
Он пообещал, что однажды свозит на Север и меня. Мне никак не удавалось представить себе этот Север. Знал только, что Север очень богатый, а Юг – бедный. И мы были бедняками.
Мама говорила, что, если папа будет продолжать работать так много, скоро и мы перестанем быть бедными и станем состоятельными. И поэтому не должны жаловаться, что папы подолгу нет с нами. Это он делал ради нас.
Я, запыхавшись, вбежал в дом.
Папа сидел за столом в трусах и майке. Перед ним – бутыль красного вина, во рту – сигарета с мундштуком. Моя сестричка угнездилась у него на коленях.
Мама готовила лицом к плите. Стоял запах лука и помидорного соуса. Телевизор, огромный чёрно-белый «Грюндиг», который пару месяцев назад привёз папа, был включён. Жужжал вентилятор.
– Микеле, где вы пропадали целый день? Ваша мать уже устала ждать. Вы совсем не думаете об этой несчастной женщине, которая мало что целыми днями ждёт своего мужа, так ещё должна ждать вас… Что случилось с очками твоей сестры? – спрашивал папа.
Однако сердитым он не выглядел. Когда он сердился по-настоящему, глаза у него вываливались из орбит, как у жабы. Он был счастлив, что вернулся домой.
Сестра посмотрела на меня.
– Мы строили шалаш, – я достал очки из кармана, – и они сломались.
Папа выпустил облачко дыма.
– Подойди. Дай погляжу.
Папа был невысоким, худым и нервным. Когда он садился в кабину своего грузовика, его почти не было видно из-за руля.
У него были чёрные волосы, которые он бриолинил. И росла жёсткая седая щетина на подбородке. И он пах одеколоном.
Я протянул ему очки.
– Выбросить. – Он положил их на стол. – Больше никаких очков.
Мы с сестрой переглянулись.
– А как же я? – насторожилась Мария.
– Поживёшь без очков. Будет тебе уроком.
Мария потеряла дар речи.
– Но она не сможет. Она ничего не видит, – заступился я за сестру.
– А кого это интересует?
– Но…
Никаких «но». – И повернулся к маме: – Тереза, подай-ка мне вон тот пакет, что на буфете.
Мама протянула ему пакет. Папа достал оттуда синюю бархатную коробочку.
– Держи.
Мария открыла её. Внутри лежала пара очков в оправе из коричневого пластика.
– Попробуй их.
Мария надела очки, но продолжала гладить футляр.
– Нравятся? – спросила мама.
– Да. Очень. И коробочка красивая. – И побежала посмотреть на себя в зеркало.
Папа налил себе ещё вина.
– Но, если сломаешь и эти, других я тебе не куплю, поняла? – После чего взял меня за руку: – Покажи-ка мне твои мускулы.
Я согнул руку и напряг мышцы. Папа обхватил мой бицепс:
– Не очень-то изменился с прошлого раза. Делаешь гимнастику?
– Да.
Я ненавидел гимнастику. Папа хотел, чтобы я её делал, он говорил, что я рахит.
– Неправда, – сказала Мария, – ничего он не делает.
– Иногда делаю. Почти всегда.
– Садись сюда. – Он усадил меня к себе на колени, и я попытался его поцеловать. – Нечего меня целовать, грязнуля. Если хочешь поцеловать своего отца, сначала надо помыться. Тереза, как мы поступим, пошлём их в койки без ужина?
У папы была красивая улыбка и отличные белые зубы. Чего не унаследовали ни я, ни моя сестра.
Мама ответила, даже не повернувшись:
– Было бы правильно! С этими двумя я вообще дела иметь не хочу.
Вот она действительно была сердита.
– Давай сделаем так. Если они хотят ужинать и получить подарок, который я привёз, Микеле должен победить меня. Прижать мою руку. Иначе – в кровать без ужина.
Он привёз подарок!
– Ты шутишь, опять ты шутишь…
Мама была очень довольна, что папа снова дома. Когда папа уезжал, у неё начинал болеть желудок, и чем дольше длилось его отсутствие, тем молчаливей она становилась. Через месяц замолкала совсем.
– Микеле не сможет тебя победить. Он слабак, – сказала Мария.
– Микеле, ну-ка докажи своей сестре, что сможешь. И расставь ноги пошире. Если будешь держать их вместе, проиграешь сразу, и никакого подарка.
Я приготовился. Я сжал зубы, обхватил ладонь отца и начал давить изо всех сил. Никакого результата. Рука не сдвигалась ни на миллиметр.