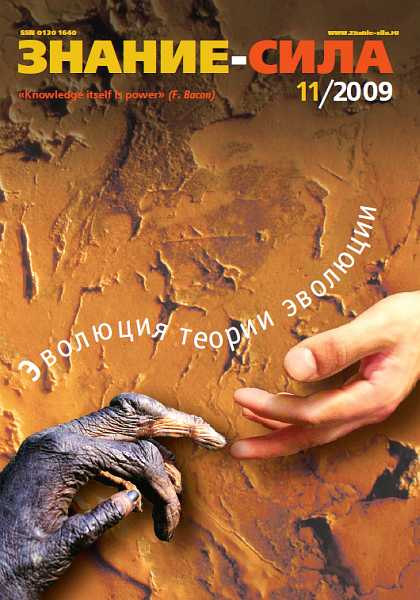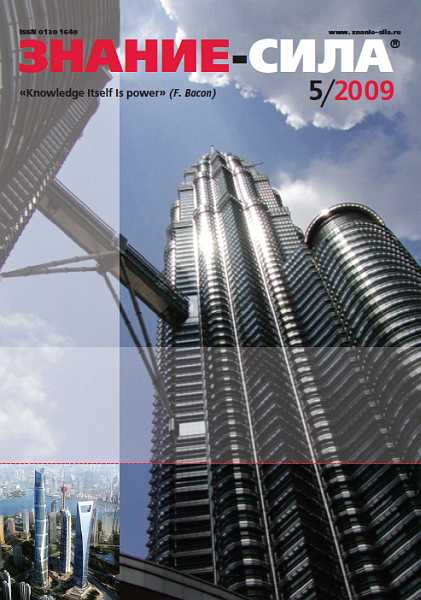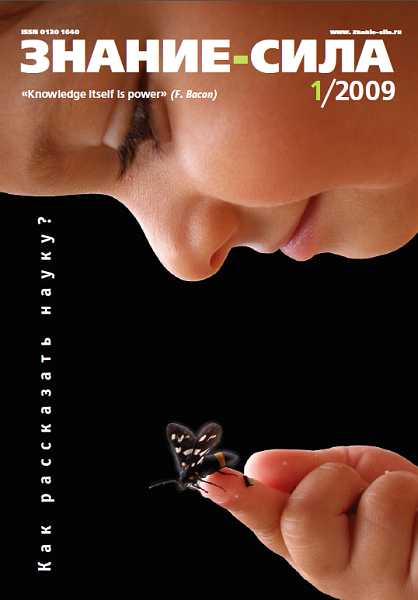не считал это силой. То, что его работы печатали в сборниках работ известных математиков, когда он учился в десятом классе, — для него не было важно. Его мучило, как он неловок в физкультурном зале: костлявый, розовый, никаких мускулов… Он хотел быть, как все — в этом возрасте ведь хочется быть настоящим мужчиной, воином. Дрессировал себя — и упал в пропасть.
— Расскажите, пожалуйста, о конкретных методиках: что такое, например, творческое коллекционирование? Чем оно отличается от «нетворческого»?
— Пациент не просто собирает сериями, скажем, марки, как обычно делают коллекционеры. Коллекционеры ужаснулись бы, если б увидели, что тут происходит: в альбоме на одной странице могут соседствовать марки из разных тем, времен; здесь могут быть даже попорченные марки, которые бы ни один коллекционер в свое собрание не включил. Дело в том, что именно для нашего пациента все эти марки объединяет. А объединяет их то, что они ему созвучны, что в каждой марке он видит что-то, помогающее ему чувствовать себя собой. Там могут быть и животные, и растения, и портреты, и сооружения — лишь бы все это в совокупности образовывало «портрет» собирателя. Тут же, на соседней странице, может быть и несозвучное — то, что человеку, напротив, чуждо, даже неприятно. Это тоже бывает важно, чтобы через несозвучное отчетливее почувствовать свое, себя — собою.
— Есть еще такая интересная вещь, как «творческий поиск одухотворенности в повседневном». Что это значит?
— Это означает способность в самом обыкновенном — в каком-нибудь городском запыленном одуванчике — увидеть красоту, в сущности, собственную красоту. Вообще — увидеть, открыть необычное, созвучное себе, неповторимое, то есть себя, свое. Ведь открыть что-то особенное в обыкновенном может лишь тот, кто есть личность. Скажем, идет такой человек по лесу — и видит необыкновенную, дивную для него шишку. Мимо нее прошли тысячи людей, а он взял эту шишку — и оказалось, что она в некотором роде произведение искусства. Но другие люди этого поначалу не заметили. А он — заметил, увидел в ней свою красоту и через эту шишку показал людям свое неповторимое. Поэтому она может даже стоить больших денег — где-нибудь в Японии, чувствующей, понимающей эти духовные ценности, глубины. Хотя человек не затратил видимых усилий для того, чтобы с этой шишкой что-то сделать — просто выхватил ее из окружающего своим взглядом: творческим, художественным.
— Как проходят ваши групповые занятия с пациентами?
— В группе примерно 10–12 человек. Вначале психотерапевт или кто-нибудь из достаточно подготовленных пациентов рассказывает о каком-нибудь, например, художнике, писателе, ученом, — можно рассказывать вообще обо всем на свете, но так, чтобы увидеть в этом глубинную связь характера — в широком смысле, как букета душевных особенностей — с произведением творчества, вообще с творческим поведением человека.
Мы обсуждаем творчество человека, его биографию — исходя из его характера, его душевной болезни. У нас ведь есть и тяжелые больные. Для них важно увидеть, что среди великих людей было немало душевнобольных. Об этом — важная для нас книга Александра Шувалова «Безумные грани таланта», — это наша энциклопедия, мы нередко на нее опираемся.
Кстати, мне часто приходится отвечать на вопрос: какой смысл в терапии творческим самовыражением, когда мы знаем, что у громадного количества художников, писателей были и есть серьезные трудности с душевным здоровьем?
Я говорю: а что было бы, если бы они жили вне творчества? В том-то и дело, что подлинное творчество — это всегда лечение страдания. Я в этом убежден. И если у человека нет подлинного страдания, если он не мучается — ничего великого он не создаст. Творчество — не баловство. Это еще Дюрер замечательно показал в гравюре «Меланхолия». Страдание, депрессия, меланхолия — это очень часто не гнилая болячка, которую надобно вырезать и выбросить: страдание таит в своей глубине и противоядие от себя самого в виде способности к творчеству. Не встречал ни одного более-менее сложного душой человека с переживанием своей неполноценности, который не был бы способен создавать что-то свое, творчески неповторимое.
Важно, что терапия творческим самовыражением — терапия клиническая, то есть те или иные приемы терапии творчеством используются в зависимости от клинической картины. Например, наш диссертант Инга Юрьевна Калмыкова помогает в нашем духе тяжелым больным шизофренией — с шизофреническими шубами [7], с острыми психотическими расстройствами, — конечно, вне острых состояний, когда психотика спадает, и больные пребывают в тягостной заторможенности с переживанием своей неполноценности, измененности. Это совсем другая работа, нежели, например, с психастениками. Больные шизофренией с глубокими душевными изменениями часто не могут вдумчиво постигать характеры людей. Тогда они изучают характеры через цветы, через образы животных в сказках — примерно так, как это происходит и в детском саду или в школе, где метод применяется для здоровых застенчивых ребят. Главное — уловить свою стойкую душевную особенность и в ней — свою силу и ценность.
Тут есть еще один важный момент. Мы говорим, что творчество уникально — ведь никогда не было такого человека, как каждый из нас, и никогда не будет в точности — ни телесно, ни душевно. Индивидуальность как основа творчества неповторима. А при чем тут характеры? Ведь характеры повторимы.
— Видимо, повторима общая матрица, а то, как мы ее заполняем — всякий раз индивидуально.
— Так в том-то и дело, что сначала нужно найти то, что роднит тебя с другими, на которых похож. Узнать, с кем ты вместе в каком-то определенном характере. Независимо от таланта, способностей. С Пушкиным? С Чеховым? Может быть, с другими, сегодняшними известными людьми, с твоими товарищами, у которых тот же характер? А затем, изучая эти стойкие душевные особенности, общие для своей группы, постепенно обнаруживаешь: в чем же ты неповторим в сравнении с другими людьми в этой группе, в этом характере.
Между прочим, именно так с давних пор учатся студенты в творческих вузах: они рисуют картину созвучного им художника — того, на которого больше похожи душой, и через некоторое время начинают чувствовать, понимать, в чем же я другой, неповторимый. Психолог Геннадий Моисеевич Цыпин отметил, что Морис Равель называл это «бессознательной неточностью»: студент консерватории исполнял произведение созвучного ему композитора — и обретал себя, собственную манеру игры, когда появлялось невольное отклонение от заданного, творческое движение, свойственное только ему, обусловленное его неповторимой индивидуальностью. Все время об этом вспоминаю.
— Вы разрабатывали свой метод на протяжении тридцати лет. Как он изменился за это время?
— Он углублялся и расширялся — и независимо от меня, вышел за стены медицины.